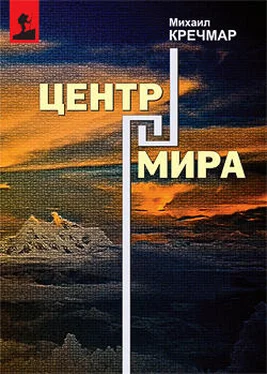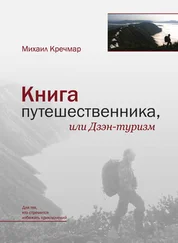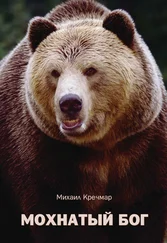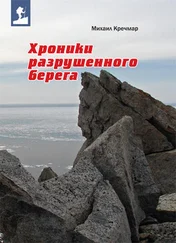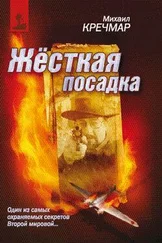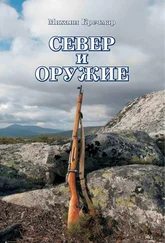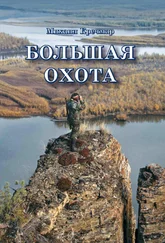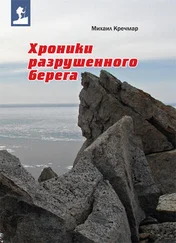– Вы знаете, здесь очень много всяких сумасшедших ходит, – говорила Александра Петровна Смолина, завлаб истории культур Семиречья. – Я не скажу, что всех не упомнишь, некоторые типы очень яркое впечатление оставляют.
Но этот ваш рерихианец был, видимо… сероватенький, – припечатала она покойного доцента из института Лумумбы.
В институте стоял особый запах пыли, слежавшейся бумаги и старого дерева – так часто пахнут изнутри русские институты и университеты. Шемякин, сам выходец из семьи научных сотрудников, любил этот запах – он напоминал о старой профессуре, о размеренной, серьёзной, поделённой на семинары, коллоквиумы и лекционные пары жизни, о долгом исследовании чьих-то отчётов и документов, иногда написанных сотни лет тому назад.
Коллега профессора Смолиной, Татьяна Шинкарёва, была несколько иного мнения о Никонове – на неё он не произвёл впечатления «сероватенького», скорее всё-таки – кого-то из «ярких».
– Приставучий был мужичишко, – рассказывала она за чашкой кофе ироничным, хорошо поставленным лекторским голосом. Голосом дамы, которой никогда не бывать замужем. – Учёным его назвать, конечно, нельзя. Я бы не назвала его даже научным сотрудником. Хотя он был им вроде… Ах, служил в Лумумбарии? Ну, там разные экземпляры попадаются. Кого он мне напоминал? Собирателя баек.
– Легенд, может быть? – робко попытался вступиться за покойного Шемякин.
– Не знаю. Для меня собиратель легенд – это профессионал. Фольклорист, почти коллега. А он был именно собирателем баек. В принципе этим грешат почти все эзотерики. Им убеждения заменяют систему.
– А не могли бы вы вспомнить, – гнул потихоньку своё Шемякин, – какого характера были байки, которые он собирал?
– Ах да, вы же милиционер, – несколько разочарованно протянула Шинкарёва и взяла длинную дамскую сигарету. В тёмной кофте и чёрных брюках, с прямыми, жёсткими, тёмными волосами, она походила на комиссаршу времён гражданской войны, какими представлял их себе Шемякин по книгам Алексея Толстого и Бориса Лавренёва.
– Байки его интересовали весьма определённого свойства. Он собирал всё, касающееся довольно известного в широких кругах артефакта под названием Камень Чинтамани.
– Увы…
– Представляю. Хотя, может быть… Вы в Третьяковке бываете?
– Года три назад – последний раз.
– Тогда – если вы хоть как-то разбираетесь в их винегрете – там есть полотно Рериха с таким названием. Кстати, по одной из версий, камень некоторое время хранился в семье Рерихов… Ещё те проходимцы, – неожиданно сказала Шинкарёва с явным неодобрением.
– Все вместе?
– Да злая я становлюсь чего-то… Вы уж извините. Николай Рерих, видимо, с большими задатками был человек. Жена его, напротив, кажется мне довольно противной особой. Хотя… Может быть, просто я плохо отношусь к оккультистам? Именно Елена Рерих остаётся первой и единственной переводчицей «Тайной Доктрины». Ну а для детей вся эта «Живая Этика» была, видимо, business as usual.
– Так эта… Я про камешек-то…
– Что, думаете, нашёл ваш мужичонка камешек, его и пристукнули? – неожиданно развеселилась Шинкарёва.
– Не знаю, что он нашёл. Но знаю совершенно определённо, что его, как вы выражаетесь, «пристукнули», и довольно необычным способом.
– Ладно, вы, наверно, думаете, что я совсем бессердечная? Камень Чинтамани – один из самых залегендированных артефактов Евразии. Если прослеживать его историю и аналоги в разных культурах, то получится очень замысловатый сюжет. У славян его ассоциируют с Бел Камнем Алатырем. По некоторым версиям, Камнем владел Наполеон Бонапарт до похода 1812 года. Фактами установлено, что некий камень, выдававшийся за древний тибетский артефакт, имелся у Геббельса. Про семью Рерихов я и не говорю – таинственные посланцы вручили им Камень прямо в Париже. Вашего баечника интересовали легенды, связанные с нахождением Камня у Александра Великого.
– Ага, и он тоже отметился?
– Ну… Если следовать хронологии, то он, видимо, был одним из первых. До него только Моисей, пожалуй. Ваш… как его?..
– Никонов.
– …Никонов стремился оказаться в хорошей компании. В общем, существует легенда… Это даже и не легенда, а более поздняя вставка в одно известнейшее произведение искусства – «Искандер-намэ», есть такой героический эпос, посвящённый деятельности Александра Македонского, – так вот, в этой вставке описывается, как сей Камень был получен героем и куда был скрыт.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу