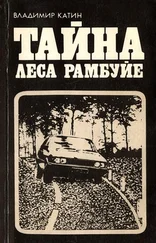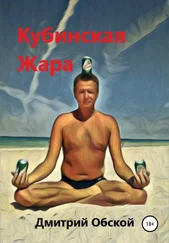Хартман молча прошел к своему столу возле окна, сел, набросил салфетку на колени и занялся своим завтраком, не обращая внимания на сидевшего в отдалении Джорджи, который уже допивал вино и осоловело таращил глаза, глядя перед собой. Кроме них в зале никого не было.
— И выйдет зверь. И будет у него пять голов и пять сердец, — заплетающимся языком заговорил Джорджи. — И каждая голова будет зваться: Подлость, Жадность, Глупость, Жестокость, Гордыня. И не будет ни Христа, ни Заратустры, ни Будды. А будет один фюрер. Только один сплошной фюрер… И пламя его пожрет наши души.
— Это ты утро так начинаешь? — спросил Хартман, кивнув на бутылку.
— Нет, — ответил Джорджи, — это я так завершаю вечер.
Хартман покачал головой. Потом кивнул на оттопыривающийся карман на брюках Джорджи:
— Ты зачем с собой пистолет таскаешь? Чего доброго себе в штаны пальнешь.
— Это? — Джорджи спрятал оружие под пиджак. — Стрелять по мухам. Мух развелось этим летом — жуть.
— Ну-ну.
Джорджи осел на локти и спросил:
— Ты никогда не обращал внимание, как любит наш фюрер слово «фанатично»? Я слышал выступление, где он произнес «фанатично» двадцать раз. «Я вернусь с этой войны еще более фанатичным национал-социалистом». Как можно быть еще более фанатичным? Или еще более преданным? Когда все закончится, эти качества будут в большой цене.
— Ты так считаешь?
— Я — да. А ты?
— А я думаю, что фанатизм не такое плохое качество, когда речь идет о правом деле.
— Ах, о правом… — оттопырил губу Джорджи. — Сколько же еще миллионов немцев, французов, русских может стоить наше правое дело? Цену принято знать заранее, но я не слышал, чтобы кто-нибудь ее называл. А если нет цены, то, значит, процесс обещает быть бесконечным. Вернее, до последней живой твари, копошащейся в этой круглой навозной куче, когда уже некому будет сказать — стоп!
Он плеснул в бокал остатки вина:
— Фанатизм сметет всё, не считаясь с последствиями, пока не расшибет в лепешку одержимый им медный лоб. У вас в СС думают по-другому? Впрочем, что это я спрашиваю? — Кончиками пальцев Джорджи побил себя по губам.
Хартман посмотрел на него более внимательным взглядом.
— «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их», — медленно произнес он. — Тебе бы разобраться, Гуго, чему ты сам больше веришь?
Натужно выдохнув, Джорджи затушил сигарету в вине и встал, пошатнувшись:
— А как я любил Париж! Боже мой! Ты представить себе не можешь, как я любил Париж… Ладно, иду спать. Хайль Гитлер, mon cher [4] Мой милый (фр.)
, хайль Гитлер.
Снисходительность Хартмана к Джорджи объяснялась тем, что отец его, Эрнст фон Носке, был дорог ему как испытанный друг, на протяжении полутора лет обеспечивавший связь между людьми Треппера из «Красной капеллы» и группой Рихтера. Эрнст фон Носке погиб случайно под рухнувшей стеной пятиэтажного здания после бомбежки, и Гесслицу стоило немалых усилий и риска, чтобы его имя не фигурировало в материалах следствия после разгрома ячеек «Капеллы» в прошлом году.
Всего этого Джорджи не знал и вел себя как анфан террибль [5] Избалованный ребенок (фр.)
с покалеченным в мотогонках коленом, бросающий глупый вызов злому и уродливому миру.
Оставшись в одиночестве, Хартман зажал сигарету в зубах, взял кофе и пепельницу, прошел к эстраде и присел за рояль. Немного подумав, он открыл крышку, слегка размял пальцы и заиграл тихую мелодию, авторства которой он не знал, щуря глаз от лезущего в него дыма.
У него еще было немного времени. Но он отдавал себе отчет, как стремительно оно таяло.
Берлин, Принц-Альбрехт-штрассе, 8,
РСХА, IV управление, Гестапо,
11 июня
В течение двух с половиной часов Мюллер с дотошностью ювелира изучал списки тех, кто находился на площади в момент операции со Шварцем. По его приказу было заказано еще двадцать восемь досье, и теперь референты спешно готовили по ним свои выводы, однако уже было ясно, что никто из попавших под подозрение не может быть связан с английским подпольем.
Наконец, Мюллер сбил бумаги со списками в аккуратную стопку и положил ее перед собой. Взгляд его карих глаз замер на ней, губы сжались в сухую, тонкую линию. От множества выкуренных за день сигарет у него заметно шумело в ушах, но он, не задумываясь, распечатал новую пачку «Оберста». Короткие сигареты с фильтром были набиты первоклассным трубочным табаком и выпускались для солдат вермахта. Их можно было купить за три пфеннига, и Мюллер, всю жизнь педантично живущий единственно только на свою зарплату, даже не отказавшийся от продовольственных карточек, привык к ним и предпочитал любым другим, несмотря на то что многие его коллеги курили дорогие, престижные марки: Шелленберг, например, признавал только английский табак, который ему доставляли контрабандным способом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
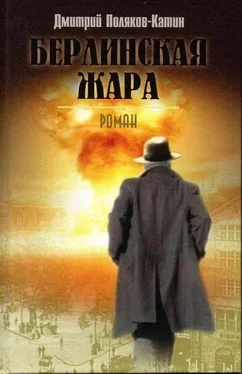

![Дмитрий Поляков (Катин) - Дети новолуния [роман]](/books/176301/dmitrij-polyakov-katin-deti-novoluniya-roman-thumb.webp)