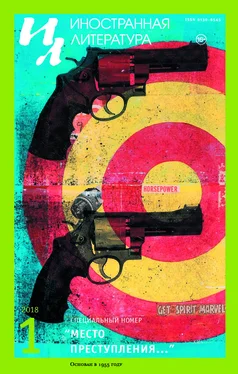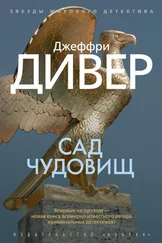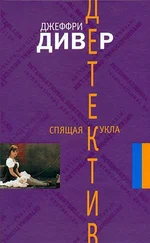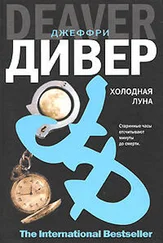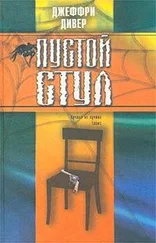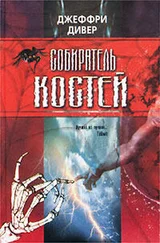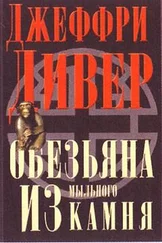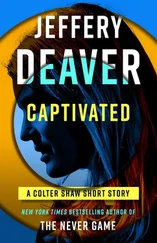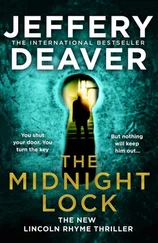Входная дверь захлопнулась, на лестнице послышались шаги. Вошла улыбающаяся Мирабель. На среднем пальце ее левой руки переливался большой брильянт. Мать Джеймса поднялась и пошла к ней, протянув руки, заглянула в лицо и спросила:
— Ты нашла нашу записку? Конечно, раз ты тут. Мирабель, не знаю, что и сказать…
Мирабель не успела ответить, как в комнате появился отец Джеймса вместе с человеком, за которого та собиралась замуж, — эдаким большим плюшевым медведем с закрученными вверх усами. Джеймс поймал себя на том, что пожимает ему руку, — все было совсем иначе, чем он себе представлял. Мирабель, рассеянная, счастливая, лучилась улыбками, предлагая всем полюбоваться ее тонкой маленькой рукой с обручальным кольцом.
— Ты звонила в больницу? Что тебе сказали?
— Я не звонила.
— Не звонила? Но как же…
— Я и так знаю, что он в порядке, Элизабет. Зачем мне, спрашивается, строить из себя дуру из-за того, что он выпил полбутылочки подкрашенной водицы?
Джеймс пристально посмотрел на нее. Веселье разом схлынуло с нее: она поняла, что сейчас сболтнула. Рука метнулась вверх, чтобы прикрыть рот, густая краска залила лицо. Она сделала шаг назад и потянула Гилберта Колриджа за руку.
— Боюсь, вы недооцениваете моего сына как токсиколога, — сказал отец Джеймса, а Мирабель отняла руку от лица, сделала серьезную мину и сказала, что им пора — надо поскорее дозвониться.
Теперь Джеймс все понял. Комната медленно снялась с места, пошла кругом и никак не могла остановиться. Он знал, что сделала Мирабель, и, хотя это не станет концом его жизни, не испортит его будущности, случившееся останется с ним навсегда. По глазам Мирабель он понял: она знает, что он знает.
Гости и хозяева сейчас двигались в сторону вестибюля, со всех сторон сыпались извинения, благодарности, пожелания спокойной ночи. Окружающее пространство постепенно приняло свои обычные размеры и форму. Джеймс заговорил с Мирабель впервые за день, и голос у него осекся:
— Спокойной ночи. Жаль, что я был таким дураком.
Она поняла, что он хотел сказать.
Джон Ле Карре
Неразлучные
Вступление к новому изданию «Шерлока Холмса»
Перевод Т. Казавчинской
Доктор Ватсон не записывает истории, он с нами разговаривает. С эдвардианской учтивостью, у тлеющего камелька. Голос у него ровный — без взлетов и падений. Ясный, энергичный, как и подобает случаю. Голос далеко не глупого колониального британца — в твидовом костюме, пребывающего в мире с собственной особой. Обладатель костюма вволю попутешествовал. Поколесил по свету, что называется, понюхал пороху. Но за границей так и не прижился. Он отличный малый, верный до самозабвения, храбрый, как лев, на таких, как он, земля держится… Подходят все трюизмы, но сам он вовсе не банален.
Тонкие чувства приводят доктора Ватсона в смущение. В искусстве он не силен. Зато, как и его создатель, он один из лучших рассказчиков, каких только знал мир. В тех редких случаях, когда он уступает сцену Холмсу, мы ждем, когда он вернется. Холмса, сложного, блестящего, стремительного, неуемного, небезопасно оставлять одного. О нет, он в полном порядке. Отлично маскируется, умеет залегать на дно, гримироваться так, что мать родная не узнает, притворяться мертвым или умирающим, прочесывать опиумные притоны, вступать с Мориарти в рукопашную на краю уступа, обводить вокруг пальца кайзеровского шпиона. Но все это не меняет главного — того, что сам по себе он лишь половина личности, а полной становится, лишь когда верный Ватсон вновь берет повествование в свои руки.
Слава богу, ни кипы ученых трудов, ни глубокомысленные диссертации чиновников от литературы не могут объяснить, почему один авторский голос нам слаще другого. Отчасти это вопрос доверия, отчасти — вопрос хороших или дурных манер рассказчика, отчасти — его авторитета или отсутствия такового. И отчасти — вопрос красоты, но в очень малой степени, совсем не в той, в какой бы нам хотелось. Я жажду, чтобы меня очаровали как читателя, причем с первых же строк или уж никогда, из-за чего на моих полках теснятся ряды книг, бог весть почему брошенных на двадцатой странице. Но если уж я поддался авторским чарам, дело сделано. С самого детства Конан Дойл приобрел надо мной власть. Я люблю его бригадира Жерара, и его свирепого пирата Шарки, и его профессора Челленджера, но больше всего я люблю Холмса и Ватсона. Такую же власть он обрел над моими сыновьями, и я с удовольствием наблюдаю, как мои внуки один за другим подпадают под его обаяние.
Читать дальше