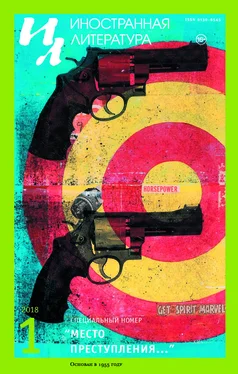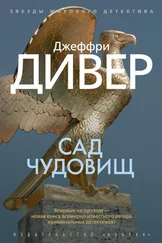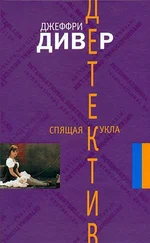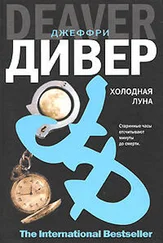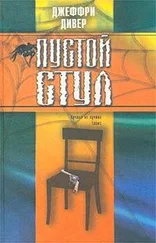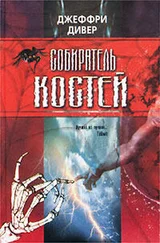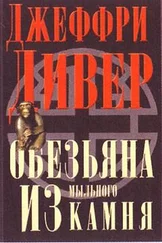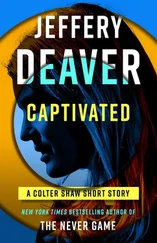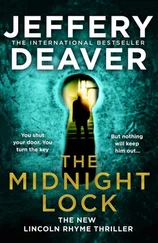В гостиной никого не было. Джеймс быстро сообразил, в чем дело. Сериал кончился, яркие движущиеся фигурки, звучные голоса и музыку сменила на экране голова очкастого старика, проводившего беседу о молекулярной физике. Внизу Оливера тоже не было. Джеймс не мог поверить, что тот способен одолеть лестницу. Но, конечно, он был способен. Это был крупный сильный малыш, который научился ходить много месяцев назад.
Джеймс стал подниматься по лестнице, окликая Оливера по имени. Было всего четверть четвертого, и мать Джеймса не вернется из Института раньше половины пятого. Дождь припустил еще сильнее, и в доме стоял полумрак. Джеймсу впервые за все время пришло в голову, что он оставил дверь в свою комнату открытой. Он оставил ее открытой, потому что там был Палмерстон, он спустился вниз, чтобы позвонить Тимоти Гордону насчет клетки для мышей, а тут как раз явилась Мирабель. Казалось, это было вечность назад, но на самом деле прошло минут сорок.
Оливер был в комнате у Джеймса. Он сидел на полу, зажав в кулачке пустой пузырек из-под datura, и из уголка рта стекала струйка бурой жидкости.
Джеймс читал в книжках, что бывает, у людей ноги прирастают к полу, и сейчас именно это с ним и случилось. Он буквально окаменел. Он смотрел на Оливера, и где-то внутри у него рос и поднимался ком, который стал биться у него в горле. Это было его собственное сердце, стучавшее с такой силой, что он испытывал боль.
Он заставил себя стронуться с места. Забрал у Оливера пузырек и автоматически, не соображая, что делает, прополоскал его в умывальнике. Оливер молча глядел на него. Джеймс вышел в коридор и постучал к Розамунде.
— Выйди, пожалуйста, Оливер выпил яд. Примерно полпинты.
— Что?
Она вышла. Поглядела на Джеймса, от ужаса у нее широко открылся рот. Он все объяснил ей, быстро, кратко, в двух словах.
— Что будем делать?
— Позвоним в «скорую».
Она остановилась в дверях спальни Джеймса и смотрела, не отрываясь, на Оливера. Тот сжал кулаки и стал тереть глаза и канючить.
— Как ты думаешь, нам нужно сделать что-то, чтобы его вытошнило?
— Нет. Пойду позвоню. Это моя вина. Я, наверное, был не в себе, когда готовил эту штуку, не говоря уж о том, что я хранил ее. Если он умрет… Господи, Роз, мы же не можем позвонить! У нас не работает телефон. Я же пытался позвонить Тиму Гордону, но соединения не было, и я пошел к телефонной будке, хотел сообщить ремонтникам.
— Ты и сейчас можешь это сделать.
— Это значит, что он останется на тебе.
У Розамунды задрожали губы. Она поглядела на маленького мальчика, который лежал сейчас на полу, широко открыв глаза и засунув в рот палец.
— Не хочу. А вдруг он умрет?
— Тогда иди ты, — сказал Джеймс. — А я останусь с ним. Спускайся, наберешь 9–9–9, вызовешь «скорую», а потом пойдешь в деревню и приведешь маму. Ладно?
— Ладно, — сказала Розамунда и двинулась к выходу, по лицу у нее текли слезы.
Джеймс взял Оливера на руки и бережно положил на кровать. На лице ребенка блестели капельки пота, но пот мог выступить просто оттого, что ему стало жарко. Мирабель слишком сильно его укутала для этого времени года — в шерстяную кофточку поверх свитера и футболки. Он явно хотел пить. Вот почему он твердил ички. Ички значило «водички». Существовала ли хоть малейшая вероятность того, что за год, истекший с тех пор, как он, Джеймс, приготовил datura, яд выветрился? Если по-честному, он в это не верил. Ему припомнилось, что он где-то читал, будто на яд не действует ни жара, ни сухость воздуха и, наверное, время на него не действует тоже.
Глаза у Оливера закрылись, а румянец, игравший на лице, пока он смотрел телевизор, сбежал с пухлых щечек, которые приобрели восковой оттенок. По крайней мере, он вроде бы не испытывал боли, но бисеринки пота все еще блестели на лбу. Джеймс снова спросил себя, почему он был таким дураком, что хранил яд. Час тому назад он уже было почти совсем его выбросил, но нет, не выбросил. Что толку было сейчас рвать на себе волосы — его отец говорил в таких случаях: «Задним умом крепок».
Но Джеймс думал о будущем, не о прошлом. Ему вдруг пришло в голову, что если Оливер умрет, то это он, Джеймс, убьет его, и это, в общем, так же верно, как если бы он выстрелил в него из отцовского дробовика. Пропадет жизнь, пропадет вся его будущность. Потому что он никогда себе этого не сможет простить и навсегда останется сломленным человеком. Ему придется укрыться в какой-нибудь глухомани, учиться в другой школе, а когда он эту школу закончит, устроиться на какую-нибудь бессмысленную работу и влачить жалкое, неполноценное существование, исполненное угрызений совести. Придется забыть навсегда об Оксфорде, о работе в исследовательской лаборатории, о счастье, самореализации, успехе. И ничего он не преувеличивает. Именно так все и будет. А Мирабель?.. Если его жизнь будет разбита вдребезги, то что станется с ней?
Читать дальше