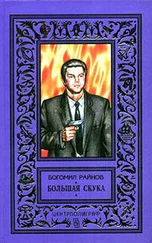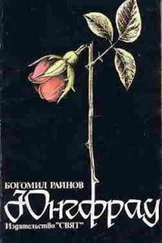Голос мой звучит почти ласково, и я сознательно не напоминаю Доре, что в прошлом она не раз получала такие повестки и прекрасно знает всю эту процедуру. Но мой дружеский тон не находит у нее отзвука.
— Оставьте, — машет рукой Дора. — Ваши вчерашние намеки были довольно прозрачные.
— Откуда такое отношение?
— Вы и все вам подобные просто пропитаны недоверием.
— Профессиональный инструмент, — соглашаюсь я. — Но его я держу в одной руке. А в другой — доверие. От вас зависит, за какую руку вы ухватитесь.
— Сказки, — отвечает безучастно Дора. — Лично вас я не знаю, но с другими встречалась. Вы все отравлены недоверием. И сами отравлены и стараетесь отравить жизнь другим.
— Вы имеете в виду, прежде всего вашу собственную?
— Да, и мою…
— Кто же вас травил, скажем, последние полтора года?
— Полтора года назад…
Она не закончила, однако интонация ее была достаточно красноречивой.
— Полтора года назад вы сами отравляли жизнь таким, как я! — замечаю я.
— Так это ваш хлеб! Чего жаловаться?
Встаю из—за стола и делаю несколько шагов, чтобы успокоиться. Потом облокачиваюсь на стол и говорю:
— Вы, вероятно, воображаете, что у таких, как я, не хватает ума заниматься другой работой? Или вы думаете, что она доставляет нам райское блаженство? Профессия наша тем противнее, чем противнее наши пациенты.
— Имеете в виду меня?
— Угадали. И чтобы покончить с этим, хочу добавить следующее: вы пришли, чтобы предотвратить аварию. Я действительно узнал кое—что о вашем прошлом. Но если бы вы были чуть догадливее, вы бы еще вчера поняли, что у меня нет намерения делиться этим с кем бы то ни было. Во—первых, сведения эти чисто служебные. Во—вторых, мне кажется ваше прошлое — это действительно ваше прошлое. Мы не собираемся портить жизнь людям. Нам приходится вмешиваться лишь тогда, когда это необходимо. Карантинные меры, разумеется, неприятны, но заразная болезнь еще хуже.
Замолкаю и закуриваю, ожидая, пока Денева уйдет.
— А мне можно закурить? — вдруг спрашивает она.
— А почему бы и нет. — Я подаю ей пачку «Слънца». Дора закуривает, искоса смотрит на меня и произносит своим, безучастным голосом:
— Извините, иногда на меня находит… Поскольку я молчу, она продолжает:
— Я подумала, вы можете что—то рассказать Марину. И просто содрогнулась при этой мысли, потому что Марин — единственная преграда, отделяющая меня от прошлого. И если я еще живу, то только ради него.
Свой рассказ Дора сопровождает резкими движениями руки, в которой зажата сигарета. Впечатление такое, будто она чертит короткие отвесные и горизонтальные линии. Я вспомнил подергивающиеся губы Моньо. У нее тоже своеобразный тик, вероятно, на нервной почве, но не столь неприятный, как у Моньо. Потом рука застывает, голос обрывается, и я думаю о моменте, когда Дора расплачется. Но, к счастью, такие не плачут. Она замолкает.
Я тоже молчу, рассеянно разглядывая застывшую перед столом руку с сигаретой. Рука красивая, сильная, с хорошо вылепленными, длинными пальцами. Рука говорит о многом. Насколько это верно, не знаю, но мне кажется, что я вижу перед собой руку волевого, собранного человека, а досье показывает совсем другое.
— Не волнуйтесь, — говорю я, хотя не улавливаю в ее голосе никакого волнения. — Не вижу причин для беспокойства. А теперь позвольте мне задать несколько вопросов, на которые Марин, как брат Филипа, отвечать отказался, но на которые бы могли ответить вы, если вы настоящий гражданин.
Выражение «настоящий гражданин» на какой—то миг вызывает у Доры скептическую улыбку, но только на миг. Потом она кивает и смотрит на меня своими темными глазами:
— Хорошо, постараюсь ответить.
— Прежде всего, об отношениях между братьями.
— Их отношения никогда не были хорошими. По крайней мере со стороны Филипа. Марин всегда был к брату великодушным. Взял его к себе, поддерживал материально, когда тот учился, давал свою машину. Но у Филипа все это вызывало скорее злобу, чем благодарность… «Надо просить у него двадцать левов, чтобы он дал десять…» «Надо ему кланяться, чтобы что—то получить… Он благодетель, а я нахлебник…» Такие слова я слышала тысячи раз. И эту ревность, или зависть, или не знаю что он, похоже, носил в себе с детства. С годами это чувство росло. Марин был в доме любимцем, «умным» и «способным», а потом стал «умным» и «способным» в самостоятельной жизни. Известный архитектор, крупные заказы, заграничные командировки… Да и художником-то Филип решил стать из-за желания переплюнуть брата. Но Филипу не повезло, и в конце концов он стал рисовать фирменные знаки и этикетки.
Читать дальше