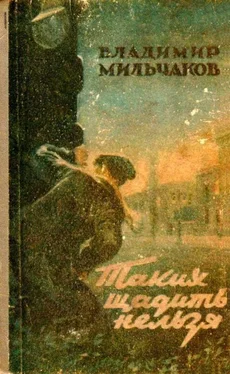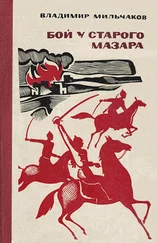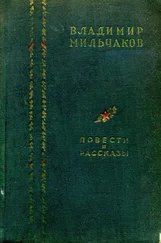— Что случилось?! — встревоженно спросила она. — Не мучь, говори сразу! Переводят?!
— Переводят… — безучастно повторил полковник. — Переводят… и переводят.
— Переводят?!. — ужаснулась Анна Павловна. — Куда? В Кушку?! В Термез?! Почему ты согласился? Ведь только начали прилично жить, устроились с квартирой!
— Подожди, — словно вдруг очнулся полковник. — Кого переводят? Куда?
— Да ты только что сказал…
— Ты сегодняшние газеты читала? — устало спросил Турин жену.
Сообразив, что совершилось нечто другое, не угрожающее благополучию ее семьи, Анна Павловна облегченно вздохнула.
— Фу, как ты меня напугал, Петенька. А в газету я еще не успела заглянуть. Все некогда. Я ее еще из ящика не вынула.
Анна Павловна направилась к двери и через минуту вернулась с газетой. С газетного листа, окаймленное широкой траурной каймой, смотрело на нее веселое и жизнерадостное лицо Александра Даниловича.
— Как же это так? — испуганно проговорила она. — Что с ним случилось? Всегда был такой здоровый.
— Да прочитай ты, — раздраженно проговорил Петр Фомич. — Читать-то еще не разучилась?
Анна Павловна, пропустив мимо ушей колкость мужа, прочла коротенькое сообщение о безвременной трагической гибели Александра Даниловича Лобова и некролог, подписанный его близкими друзьями. У нее на языке вертелись десятки вопросов и догадок, но, взглянув из-за газеты на мрачное лицо мужа, она не решилась заговорить первая.
— Мама, скоро мы будем обедать? — донесся из соседней комнаты голос Костюнчика. — Ведь папа уже пришел.
Петр Фомич встрепенулся.
— Ну, чего же мы не садимся за стол? — спросил он жену наигранно бодрым тоном. — Разве обед не готов? Я, признаться, проголодался.
За обедом Костюнчик и Анна Павловна узнали от Петра Фомича обстоятельства гибели Лобова. Полковник взволнованно рассказывал о том, как скорбели друзья Александра Даниловича, сменявшие друг друга в почетном карауле, как держали себя жена и дети погибшего.
Услышав о почетном карауле, Костюнчик насмешливо покосился на мать.
— Так, значит, точно установлено, что Александр Данилович не сам застрелился? — переспросила мужа Анна Павловна, сделав вид, что не заметила непочтительного взгляда сына.
— Ходила вначале и такая версия, — сердито усмехнулся полковник. — Но ведь только круглый идиот мог подумать, что Саша Лобов застрелился. Не такой это был человек.
— Ну, папа, могут ведь быть различные обстоятельства, — тоном много пожившего человека вмешался в разговор Костюнчик.
Полковник удивленно взглянул на сына.
— Какие же это обстоятельства? Тяжелая болезнь? Любовная неудача? Так, что ли?
— Ну, разные… всякие… — замялся Костюнчик.
— И из-за любви раньше люди стрелялись, — вставила свое мнение Анна Павловна.
— Нет никаких обстоятельств, извиняющих самоубийство, — отрезал полковник; затем, после маленького колебания, добавил: — Кроме, пожалуй, одного…
— Ну вот, видишь, папа! — обрадовался Костюнчик.
— Я считаю, что человек может пустить себе пулю в лоб только в одном случае, — не ответив на реплику сына, заговорил полковник, — попал в руки врагов на фронте или, скажем, за кордоном. Нет возможности удрать, а сам чувствуешь, что не выдержишь, можешь под пыткой государственную тайну выдать, тогда кончай. Как угодно, а кончай. Стреляйся, вешайся, режься, разбивай себе голову о камень, что хочешь, то и делай, а кончай. Это не будет самоубийством. Это смерть в бою.
— Фу, какие ты ужасы говоришь, Петр Фомич, — зажала уши Анна Павловна. — За обедом — и о таких вещах.
— Подожди, мама, не мешай, — недовольно протянул Костюнчик. — Но зачем же тогда стреляться, папа? Можно ведь обмануть врагов. Можно рассказать им что-нибудь не очень важное, мало секретное, и потом убежать.
— Ты что же, сын, думаешь, что враги у нас дураки набитые, — ответил Петр Фомич. — Нет, Костя. Переговоры с врагом, когда ты у него в лапах, — шутка скользкая. Или молчи, как немой, что бы они с тобой ни делали, или выходи из игры.
— А как, по-твоему, папа, стал бы стреляться Александр Данилович, если бы его фашисты в плен забрали?
— Нет, — без колебания ответил Гурин. — Он бы сам из фашистов все нервы вымотал. Железной закалки был человек. Помню, когда дрались мы у пяти мостов, Саша — он тогда замкомдива был — к нам в полк приехал, — пустился полковник в воспоминания, не заметив выражения скуки, появившегося на лице Анны Павловны. Ей уже давно надоели фронтовые рассказы мужа. — Я тогда батальоном командовал. Дали мы фашистам прикурить у одной реки в Белоруссии. Река там на пять рукавов разделяется, и через каждый рукав — мост, метров этак через двести-триста один от другого. Немцы задали такого драпа, что наша разведка нащупала их далеко за мостами и начала бой, мешая фрицам закрепиться. Командир полка приказал мне идти на помощь разведке. Свернул я батальон в колонну и пошел на первый мост. Лобов — любимец солдат — тоже с моим батальоном пошел. Однако оказалось, что немцы мосты заминировали. Они должны были взрываться минут через пятнадцать один после другого. Мы этого не знали. Только прошли один мост, подходим ко второму, — а первый пошел в воздух, перешли второй — и он прямо за нашей спиной взлетел. Я, признаться, растерялся. Узкая дорога, кругом болото, один ход — через мосты, а они взрываются. Вдруг Саша подает команду: «Бегом!..» Побежал батальон. Третий и четвертый мост перебежали, а перед пятым солдаты дрогнули. Поняли, что мост под ними на воздух взлететь может. Александр Данилович выбежал на мост, встал спиной к перилам, обхватил верхний брус руками и как крикнет: «Вперед, гвардия! Не сойду с места, пока не перейдете!» — запел «Молодую гвардию». Стоит он большой, сильный, красивый и молодой, хотя уже крепко поседевший. Стоит, на солнце щурится и поет нашу старую комсомольскую…
Читать дальше