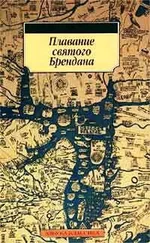Мальчик после утренних уроков по музыке, языкам и географии, с банкой червей, что с утра принесли деревенские, направлялся к пруду. Пруд был когда-то полон рыбы и ухожен, с беседкой и мостиком, а сейчас обветшал, оброс осокой и рогозом, но рыба еще там водилась, да порой и хороших размеров. Уда из ивового прута с лесой и поплавком из гусиного пера лежала на бережке, червяк был надет на крючок и заброшен за полосу кувшинок, поплавок встал белой палочкой, лягушки квакали, и что-то булькало со дна вправо. При малом своем возрасте, рыбак был готов, что клева не будет на смену погоды, но все же пристально смотрел на поплавок. Тот шевельнулся разок и замер. Так прошло с полчаса, как вдруг справа, с луга, донесся пронзительный и истошный детский крик. Мальчик бросился туда, это было совсем рядом. Сразу за прудовым бугром он увидел всю картинку. В десятке метров от него стоял на своих длиннющих ногах аист, тот самый, что селился каждый год на почерневшем от древности срубе, и которого все в округе дразнили по-своему. В своем клюве он держал зайчонка, который дрыгал лапками и истошно кричал голосом младенца, призывая весь мир спасти его. Аист пытался его глотать, но у него не получалось, зайчонок не проходил в глотку. Птица отрыгивала его, била о землю и снова пыталась глотать. Уже раздавались не сильные, но грубые раскаты грома. Мальчик кинулся на аиста, тот бросил изжеванного и покалеченного зайчишку и, расправив двухметровые крылья, ринулся навстречу ребенку. Тот развернулся и кинулся прочь. В этот момент ему в спину ударил громовой залп небесной артиллерии. Он упал на колени, но тут же вскочил и снова рванул вперед. Птица уже давно не бежала за ним, его подгоняли грохот и свет. Молнии были вокруг, и казалось, что за ним мчится сама смерть. Он бежал из последних сил, а навстречу из дома спешили люди. Оглушенный ужасом, мальчик упал. Внесли его в дом бесчувственного, а на червяка все же клюнул здоровенный карп. Он утянул легкую уду и таскал ее часами по прудовой растительности, пока не избавился от крючка.
Мальчик же в тот день приобрел то, что делает одновременно великим и несчастным – пророческий дар. Ребенок пролежал в постели неделю, вокруг все суетились со сказками и разговорами, а у него внутри шла война. С теми войнами он и будет взрослеть, он не мог объяснить причины их возникновения, не мог и влиянием своим что-то изменить. Он просматривал их от начала до конца, на каждом квадратном метре. Гедеон не будет вникать в иллюзии, что человеческая агрессивность требует войны, все это было не его, но на каких-то только ему известных формулах он мог рассчитывать дни ее начала и конца. Пока же его везут в город, теперь уже на постоянное проживание с учебой. Гедеоном назвала его бабушка, когда он, стараясь быть последовательным, осуждал ту птицу. Она просила мальчика не судить строго, а постараться понять. Аиста пристрелили, но зайчонка не спасли, он был обречен на поедание в любом случае, ибо родился уже жертвой.
***
В конце января умер вождь. В деревне был митинг, но из-за большого снега и шквального ветра продлился недолго. Главный вопрос все равно успели озвучить: – Как жить-то будем? Похоже, никто не знал. На одном из трепетавших на ветру красных стягов Ульянка узнала деда Гедеона, и как могла ликовала, утирая сопли. На стяге, рядом с теперь уже почившим вождем, был изображен Карл Маркс.
По возвращении домой Ульянка все рассказала. Гедеону вовсе не хотелось быть похожим на Мордехая – «выкреста» и вероотступника. В храмах его новой церкви Гедеону виделись орлы римского Пантеона, свастики фашистов, ненависть и презрение к русскому народу. Гедеон выглядел, конечно, ужасно марксоподобно, и, казалось, уже не было ни гребней, ни ножниц, чтобы изменить эту картину. Это его беспокоило лишь при помывке раз в неделю, а потом он быстро об этом забывал, благо, было о чем думать. Он рисовал карты новых победно-пораженческих границ и сводил цифры в километры. Мужчина совсем не вникал в прошлое, он был в том, уже свершившемся, но еще не показанном.
За двадцать дней до нападения японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре, на Рождество 7 декабря 1904 года, он показал картинку начальнику Николаевской академии Н.П. Михневичу, человеку, которого он давно знал и очень уважал. Они были знакомы еще со времен окончания им Николаевского инженерного училища, когда он прибыл в чине подпоручика в распоряжение офицера для поручений при штабе войск. Тем офицером и был подполковник Н.П. Михневич, который уже тогда считался одним из крупнейших русских военных писателей и теоретиков. Они хорошо общались и спорили по вопросам военной теории и практики войны, и десять лет потом сохраняли уважительные отношения младшего и старшего. По рождению они – земляки, друг другу были приятны и вразумительны. Так было до осени 1894 года, пока тридцатиоднолетнего капитана не покалечила дуэльная пуля, разбив начисто коленный сустав. Человека, спровоцировавшего дуэль, он убил, но сам остался калекой. Путь в войска был закрыт. Та история имела большой резонанс и могла жестоко для него закончиться. Как раз в тот год был пик хлопот военного министра об официальном разрешении дуэлей в русской армии, и его история как бы заглохла сама собой. Дальше была все та же деревня в Тульской губернии и прозябание у того, уже совсем заросшего пруда. Но прибыл посыльный от Н.П. Михневича, который в то время был ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба России. И он пошел под его начало, в чине штабс-капитана академии. Пройдет 10 лет, Н.П. Михневич станет начальником академии.
Читать дальше