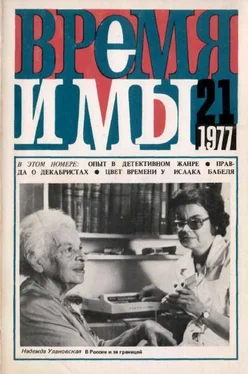— Турчак… чак… чак… — Гробокопатель заглянул в какую-то бумажку — Турчак, Евсей Евсеич, композитор и пианист. На правах автора пьесы с дурацким названием не вылезал из артистической. Я ведь расспросил капельдинера, как вы и хотели, и, между прочим, узнал массу вещей, пока Мискин не пришел, слушайте — кстати, он запаздывает. В артистической у Пешковича все время находился Турчак, который и взял потом его скрипку.
— Да, он мне ее показывал.
— Но Петр Иваныч, самое главное , вы уж не пугайтесь: в этом деле ваша супруга замешана.
— ???
— Буквально за несколько минут до звонка Пешковичу сказали, что на подъезде его спрашивает дама. Я разыскал швейцара и тот, как характерную примету этой дамы, назвал — только уж вы меня простите, Петр Иваныч — вытекшую из носа черного цвета как бы сопельку-с — ну, такое родимое пятно, или мушка, что ли… стрелочкой.
Гробокопатель очень почтительно умолк. Фыфкин тоже молчал. Наконец спросил:
— О чем они говорили?
— Не могу знать.
Тем временем — явление антихриста народу — так по крайней мере мог бы решить Савва Олегыч, в этот миг отворивший дверь следовательского кабинета, если б только вздумал выражение лица Петра Иваныча отнести на свой счет. Но Савва Олегыч был далек от этой мысли.
— Петр Иваныч, у меня новости, которые вас не могут…
— Что, собираетесь напечатать поименный список лиц, обреченных смерти в ближайшие две недели? — сказали губы Петра Иваныча, тогда как сам он оставался совершенно неподвижен, словно уже успел просмотреть этот список и обнаружить там собственное имя.
— Нет, напротив. Загвоздкину отказано. Мы его не печатаем. Поразительная догадка — кстати, вы могли бы все же извиниться за вчерашнее вторжение вашего… кучера — но я прощаю — догадка слишком поразительна.
— Уж не стало ли вам известно, каким образом был убит Пешкович? — все тем же упавшим голосом произнес Петр Иваныч.
— Этого я не могу сказать, это я предоставляю решать вам. Однако — вы слушаете меня? (мертвенное «угу») — то, что я вам рассказывал прежде — как Пешкович позабыл у меня ноты турчаковской рапсодии, а Загвоздкин принялся их листать…
— Это все ложь, вы хотите сказать?
— Милостивый государь! Говоря так, вы принимаете на себя определенные обязательства, — ответил с достоинством, хоть и не без легкого замешательства, Савва Олегыч. — Я не лгал, я ошибался, а это разные вещи, и едва только… да и вообще, как вы со мной разговариваете! Почему вы не предлагаете мне стул, я с вашим работником был более любезен…
— Простите, я не здоров, — сказал Петр Иваныч, выходя из оцепенения. — Простите, Бога ради.
— Так значит, — продолжал Мискин, когда под ним появился стул, а перед ним — примирительно — стакан чаю, — едва только я понял, что действительность и мое изложение не совсем соответствуют одно другому, я тут же поспешил к вам, чтобы рассеять то заблуждение, в которое невольно вас ввел. Дело заключается в том, что Пешкович никаких нот в редакции не забывал. Эти ноты, уже после его ухода, были положены на мой стол Загвоздкиным.
— Объясните…
— Все очень просто. Рукописный экземпляр. Списан с оригинала специально для предстоящего концерта. Потеряв ноты, Пешкович должен был хватиться их в тот же день и пуститься на розыски. Ведь куда проще найти ноты, или во всяком случае попытаться это сделать, чем заново браться за их переписку.
— Почем знать, может он их искал?
— И не вспомнил, что был в «Страже» в тот день. Мало вероятно.
— Но вы же сами про них позабыли.
— Это разные вещи. Мне-то они были ни к чему. К тому же — и это лишний довод в пользу моей догадки — ноты, позабытые, или, точнее, подсунутые мне, не были размечены, как это обычно делают музыканты, разучивая произведение.
— Ну, это, наверное, не всегда делается, — возразил Петр Иваныч, все более оживляясь.
— Гм., вы, простите, когда-нибудь баловались музычкой?
— Никогда.
— А у меня покойная сестра, царствие ей небесное, бедняжка, играла на рояле, и скажу вам, что пальцовка, штрихи расставляются музыкантами непременно. А тем более у скрипачей. Скрипка — вы знаете, какой это тонкий инструмент? У них же (скрипачей) все ноты перемараны. А тут совершенно девственная партия, словно ни разу ее не раскрывали.
— А где эти ноты сейчас?
— У меня с собой. Полюбуйтесь. — С этими словами Савва Олегыч протянул Фыфкину тонюсенько разлинованные листы, сплошь иссеченные нарисованными от руки черной тушью значками.
Читать дальше