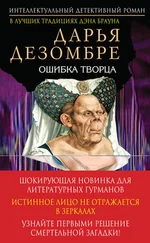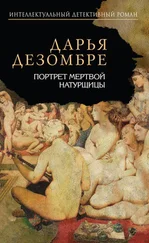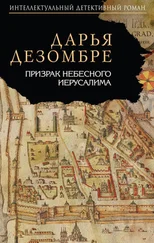– Вишь как. Все быльем поросло. Да и с соседних деревень растащили что смогли. Давно уж. А вход заложили, так детишек разве остановишь? Вот я и подумал: лучше с ними пару раз схожу – прослежу, чем сами бегать станут. Пойдем-ка, – поманил он за собой напряженного де Бриака.
Вместе они поднялись на холм, переступая через крупные камни – остатки окружавшей копи крепостной стены. Под сапогами Этьена крошилась кирпичная крошка некогда существовавшего фундамента, нога то и дело скользила на кусках полусгнившего дерева.
– Тут где-то. Дыра в земле. Бывший барин, из поляков, велел завалить все входы крепко-накрепко, но деревенские, бывало, приходили соль со стен соскрести. А после бросили – рядом еще много соли нашли, государь разрешил местным пользовать до пуда на брата…
За бессмысленным для де Бриака потоком слов старый доезжачий сдвинул, навалившись, несколько крупных камней, частично высвободив уходивший под землю темный лаз. Де Бриак подошел, заглянул внутрь.
– Погоди-ка, ваше благородие, – тронул его за рукав куртки Андрон и полез в холщовый мешок, что нес на плече с Приволья. В мешке оказалась обмотанная паклей палка. – Смолица, – подмигнул он де Бриаку, доставая огниво. – Подпалишь, и сам черт тебе не брат.
– Ты, – показал на него Этьен, забирая у доезжачего факел, – здесь. Я, – указал он на себя и перевел палец на открывшийся внутрь земли зев, – иду туда. Жди меня.
Андрон посмотрел на него внимательно и кивнул.
– Ты это, барин… Ори, ежели что.
Де Бриак мельком улыбнулся, заподозрив в последней фразе пожелание вылезти живым из подземной передряги.
– Жди! – повторил он и исчез в черной дыре.
* * *
Некоторое время он шел вперед, а когда снаружи совсем перестал проникать свет, зажег факел. От полыхнувшей пакли пахнуло дегтем, от черного едкого дыма защипало глаза. Он поднял факел выше: отражая пламя, сверкнули на стенах кристаллы соли. Туннель был широк и медленно спускался вниз. И чем ниже он спускался, тем сильнее преображался воздух, становясь сухим и будто звонким.
Странное место эти соляные месторождения, размышлял, глядя по сторонам, Этьен. Остатки древнего высохшего океана. И нынче он, как древняя рыба, плывет по туннелю и совсем не испытывает страха перед вооруженным и явно безумным убийцей. А напротив, чувствует нечто вроде эйфории. Возможно, думал он, это есть влияние здешнего подземного воздуха. То же чувствует и тот, другой, вдруг понял он, прислушиваясь, – все было тихо, лишь шуршал под ногами соляной песок. Насыщается здешним эфиром и кажется себе бессмертным хозяином подземелья. Чародеем, лишающим жизни своих ундин.
Тем временем факел, все более разгораясь в его руке, осветил нечто непредвиденное: вместо одного туннеля перед майором ныне зияло два. Оба зева были абсолютно равновелики и одинаково темны, и понять, по которому следует продолжить путь, казалось невозможным. Ошеломленный, Этьен сделал еще один шаг.
Удалите, удалите от глаз моих эту картину, сдвиньте с сердца о ней воспоминание!
А. Бестужев-Марлинский
ДВУМЯ ДНЯМИ РАНЕЕ
Дуня знала о чести и о том, как честь повязана с данным словом. Оттого его еще и зовут честным. Но есть кое-что еще, о чем слова не дают, потому что оно и так сидит внутри у каждого с рождения: защитить семью. Серп луны дробился в воде, темные деревья шептали по берегам. За поворотом с воды сорвалась с истошным криком огромная тень. Отдышавшись от нечаянного испуга, Дуня поняла: цапля.
Честь семьи дороже ли личной чести? Для дворянина начала XIX века подобного выбора не существовало – оступившись, ты лишал чести семью. И напротив, бесчестье семьи вечной отметиной ложилось на каждого из ее членов. Выбор имелся лишь меж меньшим и большим злом. И он оказался довольно прост. На секунду княжна подумала взять с собой француза – чуждость Этьена ее кругу в данном вопросе обернулась бы внезапным благом. Авдотья не сомневалась, что сможет положиться на его молчание. Пусть даже его нескромность способна была испортить ее репутацию, а дурная репутация, в свою очередь, с легкостью уравняла бы законную наследницу и бастарда. Но Дуня была уверена: столь низкий расчет даже не пришел бы майору в голову. И все же при мысли, что ей придется открыться – кому угодно, любой живой душе, – ее охватил такой замешанный с темным стыдом ужас, что она мгновенно отказалась от этой идеи, и потому нынче в полном одиночестве вглядывалась в берега, чтобы не пропустить оставленных еще в детстве меток. Не будь войны, думала Дуня, план был бы ясен: продать имение вместе с семьями пострадавших крестьян. А его – она не решалась назвать безумца по имени – отдать в те страшные доллгаузы [60] Дома для умалишенных; от нем . Tollhaus – сумасшедший дом.
на Божедомке и Мясницкой, мимо которых Авдотья даже в закрытом экипаже проезжала с зажмуренными глазами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу