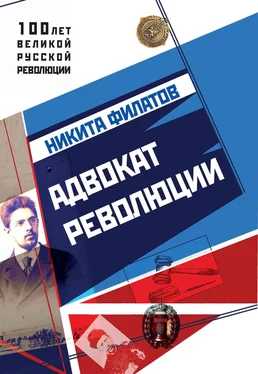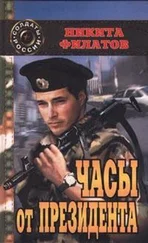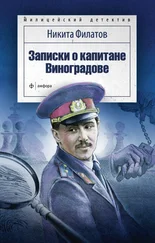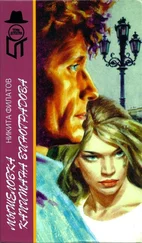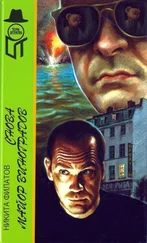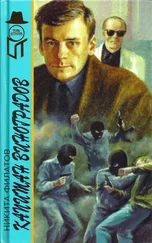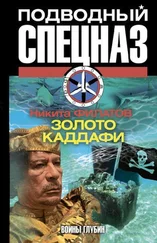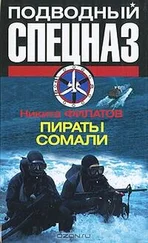— Итак, давайте продолжим. — Владимир Анатольевич поднялся из-за стола, отодвинул прозрачную штору и достал папиросу: — «…Начавшееся шестого июля немецкое наступление разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, может быть, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный прорыв быстро исчерпал себя. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу — на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом…» Вы успеваете, Верочка?
— Да-да, не беспокойтесь, — кивнула стенографистка.
Одета она была в очень строгое, по военному времени, светло-серое платье с высоким воротом и, несмотря на полнейшее отсутствие внешнего сходства, чем-то напоминала Владимиру Анатольевичу ту давнюю барышню из кондитерской, которая почти двенадцать лет назад дала ему, начинающему адвокату, пощечину за участие в деле о Кишиневском погроме.
— «…Некоторые части самовольно покидают позиции, даже не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Положение на германском фронте требует самых серьезных мер…» — продолжил диктовать Владимир Анатольевич.
Открытое настежь окно его номера выходило на пересечение Губернаторской улицы и Соборной площади, а сама шестиэтажная гостиница «Европа» считалась в Минске самой шикарной и современной. Располагавшийся при ней первоклассный ресторан не прекращал работу даже в военное время, а посетителей по вечерам развлекали румынский и венский дамские оркестры. К тому же в каждом из ста тридцати номеров имелись телефон, умывальник, электричество, водяное отопление, ванная.
«…Сегодня Главнокомандующий с согласия комиссаров и комитетов отдал приказ о стрельбе по бегущим изменникам. Пусть вся страна узнает правду, содрогнется и найдет в себе решимость обрушиться на тех, кто малодушием губит и предает Россию и революцию…»
Город медленно плавился от июльской жары. Даже медные звуки гвардейского марша, доносившиеся откуда-то со стороны вокзала, кажется, безнадежно увязли в густом неподвижном воздухе, наполненном пылью и запахами цветущих садов. Вдоль по улице, оставляя за собой длинный шлейф механического перегара, прокатил санитарный автомобиль с ярким красным крестом на брезентовом кузове. Редкие пешеходы — в основном это были мужчины призывных возрастов в военной или полувоенной форме, — торопились как можно быстрее укрыться в тени.
— Эту телеграмму необходимо сегодня же разослать по дивизиям, во все солдатские комитеты. За моей подписью и за подписью командующего фронтом.
— Будет исполнено, Владимир Анатольевич, — почти по-военному ответила стенографистка, закрывая блокнот и убирая карандаши в специальный футляр.
— Ну, тогда у меня, в общем, все на сегодня. Спасибо за работу, Верочка. Можете взять мой дежурный мотор, он стоит внизу. Шофер предупрежден…
Оставшись в одиночестве, Жданов опять поймал себя на мысли, что так и не смог до конца осознать всех стремительных перемен, произошедших в его жизни и в судьбе государства Российского за последние несколько месяцев. Казалось, еще вчера было: продуваемая ветрами ложбина в горах, двухэтажное здание темно-красного кирпича с вывеской «Александровская центральная каторжная тюрьма» и двуглавым орлом на фасаде. Ряды окон, закрытых решетками, тюремный двор за оградой, а по углам — караульные вышки…
На дворе централа можно было встретить лишь каторжанина в арестантском бушлате или фигуру сурового надзирателя — здесь не бывало других людей. Вокруг тюрьмы, разбросанные в беспорядке, лепились серые дома села Александровское. Сколько раз засыпало их снегом по самые крыши! Сколько раз год за годом суровые сибирские морозы заковывали мертвым льдом унылый окружающий ландшафт — а потом все снова таяло, возвращалось весеннее солнце и тянуло с тайги упоительными ароматами вольной воли…
Уголовное братство жило на каторге по своим законам. Главных авторитетов здесь называли «иванами», они противопоставляли себя остальным уголовникам — «шпанке» или «кобылке», которых удерживали в подчинении. Достигалось это разнообразными способами. Например, «иваны», по согласованию с начальством, добывали на воле водку, закуску, различные мелкие товары и открывали «майдан» — тайную тюремную лавочку. Цены в ней были высокими, а деньги ссужались под огромные проценты. Администрация старалась, конечно, контролировать майданщиков и не давала им развернуться в полную силу, однако негласный союз между властями и уголовными авторитетами позволял поддерживать дисциплину среди каторжан без применения крайних мер. Хотя, случалось, заключенных все-таки лишали прогулок, отправляли в одиночку, надевали смирительные рубашки или подвергали телесным наказаниям несмотря на официальную отмену таковых в соответствии с Уложением от второго июля тысяча девятьсот третьего года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу