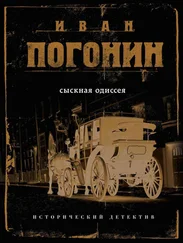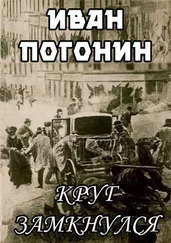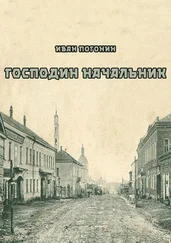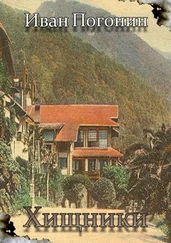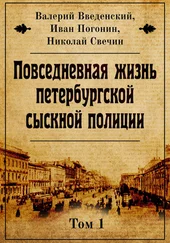18 декабря 1905 года у управляющего имением «Отрадное» Скибинского произошёл конфликт с двумя рабочими, в ходе которого поляк не сдержался и нанёс подчинённым по несколько ударов. Те пожаловались начальнику станции, а тот не придумал ничего лучшего, чем порекомендовать пострадавшим обратиться в народный суд. 19 декабря Скибинский был принудительно доставлен милицией в судебную комиссию. Народный суд приговорил управляющего к месячному аресту и взыскал с него 20 рублей в пользу потерпевших и 50 рублей на народную милицию. Приговору суда Скибинский подчинился, а отбыв наказание — бежал из Гагр.
Когда в конце декабря в Сочи началось вооружённое восстание, гагринский народно-революционных комитет отправил туда 60 вооружённых боевиков. Сочинских повстанцев со дня на день ждали в Гаграх. Связи с внешним миром у руководства станции не было: почта и телеграф не работали, пароходы не ходили. «Доходили сведения неясные и тревожные, — вспоминал Кропачёв в эмиграции, — вроде Петербург сдался революционерам, а Москва ещё борется, Ростов в руках революционеров, Новороссийск также, в Севастополе бунт, в Тифлисе наместник отказался от власти и передал её революционерам… Все это сильно действовало на нервы, помощи ждать было неоткуда, надеяться можно было только на себя…»
На митинге 5 января постановили начать вооружённое восстание.
Принц Ольденбургский послал великому князю Николаю Николаевичу паническую телеграмму: «Только что получил окольным путём донесение Кропачёва, что положение на станции чрезвычайно опасное. Гагры отрезаны. В Сочи бунт. Окружное население мингрельцев и присоединившихся к ним абхазцев все вооружено магазинными ружьями, открыто организованы революционные комитеты. Просил прислать военное судно с усиленным экипажем и пулемётами. Третий день не получаю ответа. Воронцов бездействует. Престиж России падает. Помоги выйти из этого безвыходного положения. Проси если нужно Государя разрешить послать в Гагры из Одессы или Севастополя прямым рейсом две роты солдат и пулемёт».
7-го января на рейде против Новых Гагр стал эскадренный миноносец «Живой», а против Старых Гагр бросили якоря минный транспорт «Дунай» и канонерская лодка «Терец». А 9-го января 1906 года, в годовщину кровавого воскресенья, сюда пришёл из Новороссийска военный транспорт «Днестр» с двумя сотнями пластунов. Начались массовые аресты. Постепенно власть возвращалась в руки правительства.
В мае 1906 года дело об убийстве Шереметевского слушалось Тифлисским окружным судом. Непосредственных исполнителей — крестьян Гагринского участка Черноморской губернии Парнозе Джикилиани, 24 лет от роду и Давида Бенделая, двадцати лет, приговорили к 11 годам каторжных работ каждого. Братья Азнавуровы получили по 9 лет каторги. Илья Максимович Брызгалов, хотя и был предан суда, но всё это время провёл на свободе, будучи всего лишь отстранён от должности. Интересы мирового судьи защищал один из лучших столичных адвокатов. Его стараниями Брызгалов был оправдан — Азнавуровы от своих первоначальных показаний в суде отказались, с Джикилиани и Бенделаей судья лично никаких переговоров не вёл и о его участии в преступлении они нечего не знали. В отношении мирового остались только косвенные улики, от которых присяжный поверенный и камня на камне не оставил. Сразу же после суда Брызгалов с семьёй уехал заграницу.
Леонид Алексеевич Шереметевский был похоронен на Новом Лахтинском кладбище. Размер получаемой вдовой пенсии вынуждал её круглогодично проживать с детьми на арендуемой за 100 рублей в год даче, расположенной там же, в Лахте, неподалёку от кладбища. С ними жила и престарелая мать Леонида Алексеевича.
После того как в марте 1909 года был принят закон об усиленных пенсиях семьям жертв революции, Эмилия Александровна принялась хлопотать. К сожалению, все её многочисленные прошения об увеличении пенсии остались без последствий — суд установил, что Шереметевский был убит не революционерами, а обыкновенными бандитами.
Языка затемнить — застрелить чиновника сыскной полиции (жарг. начала 20-го века).
Согласно Тебели о рангах, коллежского секретаря следовало именовать «благородием», но, по существовавшему тогда служебному этикету, подчинённые титуловали начальство не по чину, а по должности, а должность у Мечислава Николаевича была штаб-офицерской.
Читать дальше
![Иван Погонин Хищники [сборник] обложка книги](/books/386533/ivan-pogonin-hichniki-sbornik-cover.webp)

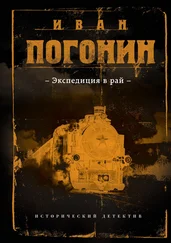
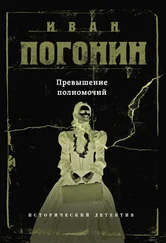
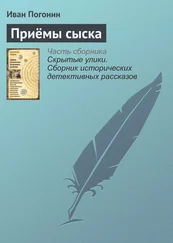
![Иван Погонин - Бриллианты шталмейстера [сборник litres]](/books/399464/ivan-pogonin-brillianty-shtalmejstera-sbornik-litr-thumb.webp)