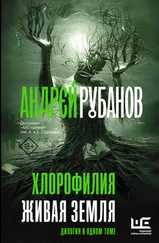– Пробовал, – ответил я. – Не получается. Очень страшно. Темнеет в глазах, ноги подкашиваются. Дальше притвора ни разу пройти не смог.
– Вот это и будет для попов главное свидетельство, что ты одержим бесами. И если попадёшь в армию – вместо защиты Отечества будешь сеять вокруг бесовские наваждения.
Читарь усмехнулся, слово “бесовский” выскакивало из его уст, как шутка. Как будто он говорил о похмельной икоте.
– Но это, братец, – продолжал он, – небольшая беда будет. А большая будет вот какая. Допустим, соберёмся мы, деревяшки издолбленные, придём к генералам, откроемся, признаемся, покажем, что умеем. И генералы, как ты и предложил, соберут из нас особый отряд. Не полк, конечно, но роту соберут. И мы пойдём в бой, и прорубимся к Бонапарту, и возьмём его в плен, и война прекратится, и солдатики уцелеют, и страдания минуют простой народ. А потом, когда всё закончится, генералы соберут нас всех в одном месте для награждения орденами, но вместо награждения – уничтожат всех. И память о нас сотрут, все письменные упоминания вымарают. Чтобы вся слава досталась не нам, а генералам. Чтобы все думали, что Бонапарт побеждён армейской дисциплиной, отвагой и военным искусством, а не усилиями деревянных отродий. Мы спасём людей, но сами – погибнем.
Я подумал и сказал:
– Так тоже можно.
– Может, можно, – тихо возразил Читарь. – А может, нельзя. Никто не знает, для какой цели мы рождены. Никто не знает, сколько войн впереди. Будут войны страшнее нынешней. Люди-то, сам видишь, не меняются.
– Как же быть? – спросил я.
– Помогай делом, – ответил Читарь. – Ты плотник – вот и плотничай. Это и будет твоя война.
После разговора осталось неприятное чувство, досада и протест. Я подумал, что он неправ, что я мог бы возразить ему. Какая разница, кому достанется слава? Какая разница, кто станет генералом? Главное – отразить вторжение врага, дать отпор, не пустить, и ещё догнать потом – и по шее натолкать, чтобы впредь было неповадно. И за такое великое действо не грех положить две сотни деревянных уродов. И если потом память о них сотрут – значит, так тому и быть. Что такое память? По воле Создателя родились многие миллиарды – но память осталась о немногих. Кто знает, какие удивительные существа появлялись на свет в отдалённые времена? Может, до нас, деревянных людей, жили каменные люди, а до каменных – люди, вовсе не имеющие материального облика, а ещё раньше – люди, не уверенные, что они люди. Кто помнит о них? Устная память хранит историю около ста лет: от деда к внуку, дальше внук понемногу забывает сказанное дедом. Письменная память хранит историю от пятисот до тысячи лет; но любой, самый надёжный и уважаемый письменный источник, – однажды вдруг подвергается жестокой критике, оспаривается, признаётся ничтожным.
Прошлое так же подвижно, как и будущее. Незыблем лишь настоящий момент: сегодняшний, сейчас протекающий миг, неуловимый и ужасный в своей быстротечности.
Проводив Читаря и обдумав его слова, я основал у себя тележный двор, стал собирать телеги и возы, и продавать в армию. Цену брал совсем малую: только чтоб возместить покупку материала.
Телеги, а также грузовые возы, надобны были в огромном количестве. Тысячи телег и возов каждый год. Помимо телег, требовались лошади. Успех любой войны зависел от обоза. На телегах возили провиант и боеприпасы. На телегах возили раненых. На телегах возили пленных: обмороженных, окоченевших, несчастных французиков.
Без телеги, запряжённой лошадкой, армия не могла существовать, и генералы это понимали, и сам государь Александр Павлович понимал ещё лучше.
В те времена в русской армии количество коновалов в три раза превосходило количество военных врачей. Забота о лошадях была важнее заботы о солдатах. Лошадей берегли, выхаживали, залечивали ранения. Лошади были менее выносливы, чем люди.
А вот телеги и возы – не берегли: разбивали, жгли на дрова, строили из них защитные укрепления, но чаще – просто бросали, завязнув в грязях или опрокинувшись в канаву.
Ещё чаще – телеги ломались под тяжестью наваленного неподъёмного груза.
Я нанял одного батрака и одного подмастерья, и делал только телеги и возы, по личному заказу его превосходительства генерала Щербатова, интенданта Первой армии.
Кованые железные оси и обода заказывал отдельно, но ставил их всегда сам.
Телеги делал первостатейные, крепкие и лёгкие. Выкатывал по полсотни телег в год.
Когда русская армия вступила в Париж, за ней шёл обоз из трёх тысяч телег и возов, и там были во множестве мои телеги и возы, и я горжусь, что они докатились туда через полмира.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
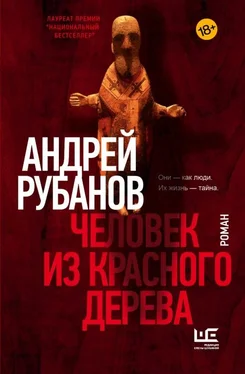
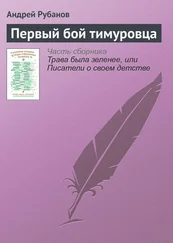

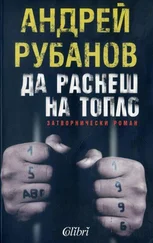
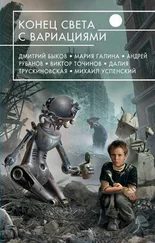


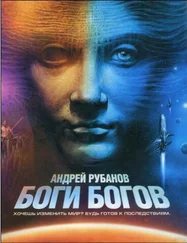
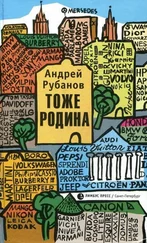
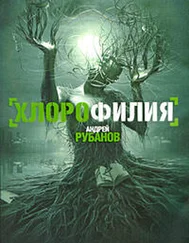
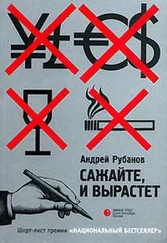
![Андрей Рубанов - Сажайте, и вырастет [litres]](/books/401249/andrej-rubanov-sazhajte-i-vyrastet-litres-thumb.webp)