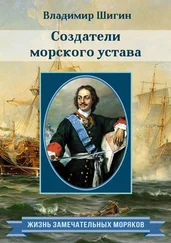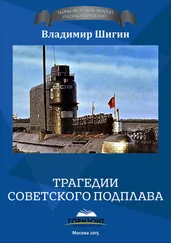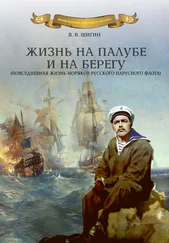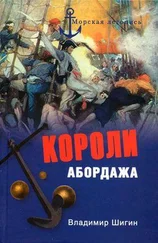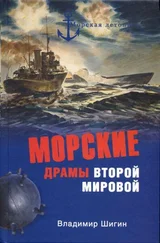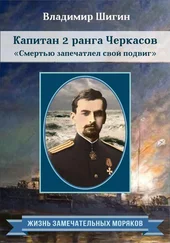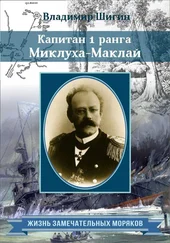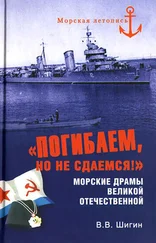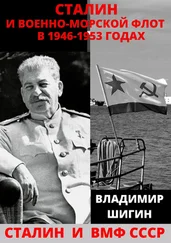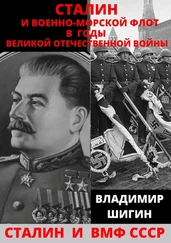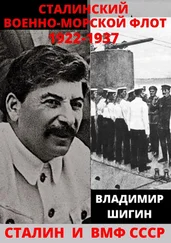Военный и военно-морской агенты довольно часто сообщали в Петроград, что вступление Швеции в войну против России практически неизбежно. И каждый раз в их запасе имелись веские аргументы в пользу такого вывода. Весной 1915 года таким аргументом стала непроверенная информация о сотрудничестве между шведским и немецким генштабами. В конце 1915 начале 1916 года сильным аргументом в пользу неизбежного русско-шведского конфликта стали сведения о военной подготовке в Германии финских добровольцев, чтобы использовать их затем с целью организации для восстания в Финляндии. Швеция в таком случае, не могла бы спать спокойно и пришла бы на помощь "истекающим кровью финнам".
Следствием очередной тревоги вокруг возможной эскалации конфликта на Севере Европы стало усиление российского военного присутствия в Финляндии. Если сравнить донесения дипломатических и военных представителей России в Скандинавии, то можно сделать вывод о том, что военные атташе были настроены более воинственно, чем дипломаты. Дипломаты, в силу своей профессии, искали возможности для мирного разрешения конфликта, военные представители империи наоборот, были приверженцами вооруженного способа разрешения конфликта.
В секретной телеграмме от 24 декабря 1914 года адмирал А. Русин просил Сташевского "осторожно, не подвергая себя риску, навести справки о возможности и условиях подкупа для помещения статей желательного нам направления шведских газет". Сташевский справился с этим поручением и сообщал спустя несколько недель о том, что ему удалось наладить отношения со вторым редактором газеты "Dagens Nyheter" доктором Карлгреном. Эта либеральная газета имела репутацию независимого и неподкупного издания. Однако ее редактор Карлгрен был готов за соответствующее вознаграждение принимать и печатать нужные статьи из России. От прямой формы взятки он отказался, но, как заметил Сташевский, "лишь облек ее в приличную форму — вознаграждение за переводы". В ходе дальнейших переговоров он просил присылать готовые статьи на шведском языке, подписывая их псевдонимом "молодой друг", но прибавил, что все же придется платить за напечатание, причем желательно помесячно". Военно-морской агент, в отличие от дипломатических представителей империи, был убежденным сторонником проверенного способа ведения информационной войны с Германией — подкупа газет, считая его "более надежным и устойчивым".
Поэтому совсем не случайно, что после завершения операции в Либаве, Анна Ревельская появляется именно в Швеции. В условиях, когда боевые действия между Россией и шведским королевством могли начаться в любую минуту, опытнейший агент, специализирующийся на военно-морских вопросах в Швеции был просто необходим. При этом, если в
Германии Анна была к этому времени уже полностью «засвечена» и эффективно работать больше не могла, то в Швеции о ней никто ничего не знал, и она могла начинать свою деятельность, что называется «с белого листа». Так как войны между Россией и Швецией, к счастью, не произошло, то об этом периоде разведывательной деятельности Анны мы почти ничего не знаем. Однако зная направленность деятельности Анны, ее активность и преданность своему делу, можно предположить, что, наверняка, с ее участием были спланированы операции подобные либавской, наверняка, она успела обзавестись необходимыми знакомствами среди офицерского состава шведских ВМС. Вполне возможно, что именно Анна имела самое непосредственное отношение к раскрытию факта сотрудничества генеральных штабов Германии и Швеции в планировании совместных боевых действий против России.
Мы не знаем в точности отношения Анны к событиям февраля 1917 года. Думаю, что оно было негативным. Для патриотки России сражающейся в одиночку на самом передовом фронте войны было горько видеть, как рушатся ее идеалы, и предается дело всей ее жизни. Как бы то ни было, но Анна продолжает работать, хотя и лишается связи с центром. Может быть, на этот раз сработали шведская и немецкая контрразведки, а может виной всему были революционная неразбериха и безвластие. Напомним, что к этому времени уже давно был убит один из первых начальников Анны вице-адмирал Непенин, а сама разведка Балтийского флота подверглась основательной «чистке» от преобладавших там офицеров-монархистов.
Как бы то ни было, но 6 октября 1917 года Анна Ревельская внезапно пришла в российское посольство в Стокгольме и сообщила капитану 1 ранга Сташевскому о готовящейся операции немцев в районе Моонзундских островов. Эта информация была немедленно передана в Гельсингфорс в штаб флота. Все переданные Анной сведения полностью подтвердилось, и весьма помогли Балтийскому флоту вполне успешно провести сражение за Моонзунд, выйдя из него с минимальными потерями. До сих пор военно-морские историки считают исход битвы за Моонзунд в 1917 году настоящим чудом по своим результатам. Весьма скромным силам Балтийского флота удалось достаточно долго сдерживать большие силы германского флота, включавшего и новейшие дредноуты. При этом самые большие потери немцы понесли на минных заграждениях, которые внезапно обнаруживали там, где их, казалось бы, не должно было быть. Зная об участии в подготовке этой операции Анны Ревельской и об ее умении представлять немцам ложную информацию, вполне возможно, что германское командование второй раз «наступило на те же грабли».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу