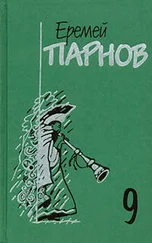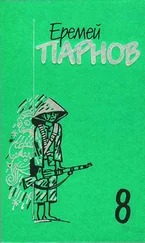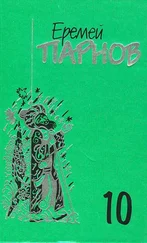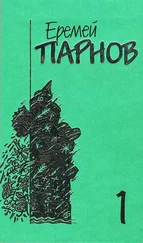– Верочка! Я обещаю, нет, я клянусь, что верну вам это! – мужественно провозгласил он, стараясь прогнать витавшего перед внутренним окном карандашного демона. – Вы еще не знаете. Вы многого еще не знаете! Вчера, когда я забегал к вам, чтобы рассказать об этом, вы были заняты, готовились принять гостей. – Лев Минеевич покосился на экспортную бутылку с зеленой завинчивающейся пробкой: «Вон они, ваши гости! По темечку топором…» – Потому и не знаете вы, хотя и раскладывали на меня, что у незаметного Льва Минеевича есть теперь рука. Да-с! И не где-нибудь, а в самом нужном для вас учреждении.
Далее он понес какую-то околесицу насчет благородного короля пик и пограничных собак, но вовремя спохватился и даже застеснялся собственных слов, когда дошел до того, что сказал:
– Вы можете быть совершенно спокойны, ибо добро всегда побеждает зло!
Бедная Вера Фабиановна никак не прореагировала на страстный монолог верного поклонника.
Раздвинув плечом бамбук, в комнату спринтерским шагом вошла сиделка, неся на вытянутых руках полотенце, в которое был завернут горячий стерилизатор.
– Очистите-ка мне здесь! – скомандовала она, кивнув на стол.
Лев Минеевич сорвался с места, но вдруг как бы осекся и, наклонившись к столу, простер над ним руки, словно наседка, защищающая яйца.
– Нет! Ни в коем случае! Пусть все остается как есть! Это очень важно. Многое мне здесь неясно. – Он выпрямился и погрозил кому-то пальцем. – Я вам лучше табуретку организую.
Он сбегал в кухню и принес облупленную табуретку. Застелив ее выхваченным где-то куском марли, он соорудил у изголовья Веры Фабиановны нечто вроде больничной тумбочки.
Сиделка раскрыла полотенце, исходившее, как компресс в парикмахерской, сухим горячим паром. Ловко выхватила из стерилизатора затуманенный шприц и вогнала в него неподатливый от нагрева поршень.
– Вы еще побудете? – спросил ее Лев Минеевич.
– До конца работы побуду, часов до семи, а там уж как знаете… – певуче ответила она, с хрустом сломав наконечник ампулы.
– Вот и хорошо! – заторопился Лев Минеевич. – Вот и хорошо… Я тут сбегаю кое-куда… Время больно дорого, а промедление смерти подобно. Но я скоро вернусь и подменю вас.
Сиделка равнодушно двинула плечом и резко всадила иглу в бессильную, вялую руку больной.
– Только на столе прошу до моего возвращения ничего не трогать! – распорядился, уходя, Лев Минеевич, и бамбук, гремя, закачался за ним.
Все было ему совершенно ясно. Он едва сдерживал нетерпение, готовый в любую минуту кинуться бегом. Никогда не ощущал он уникальности и невозвратимости каждого мига и никогда изученный до полной неразличимости домов и предметов путь от Верочкиной улицы до родной Малой Бронной не казался ему таким длинным.
На улице продавали с лотков цветную капусту и болгарский виноград. Поливная машина безуспешно пыталась остудить раскаленный асфальт. Черная блестящая полоса за ней светлела прямо на глазах, невидимым паром улетая в пыльное жаркое небо.
Ничего существенного не происходило на улице, поэтому немудрено, что Лев Минеевич не заметил ни винограда, которого никогда не покупал, ни машины, которая его совершенно не интересовала.
Арман Дюплесси де Ришелье зябко поежился и придвинул ноги поближе к каминной решетке. Буковые поленья уже рассыпались на тлеющие угли и давали ровное, убаюкивающее тепло. Старинное кресло с высокой спинкой и широкими, смягченными атласными подушками подлокотниками навевало дремоту. Высокие стрельчатые окна потемнели и превратились в синие зеркала, за которыми уже едва угадывались очертания веток.
Большой зал, где герцог-кардинал предавался приятной грусти вечерних часов, только что опустел. Писцы, которые сидели вокруг овального стола, заваленного ворохом книг и бумаг, чинно вытерли свои перья, отвесили почтительный поклон креслу у камина и отправились по домам. Дежурные пажи ушли в свою каморку, отделенную от кабинета фламандским гобеленом.
Камин догорал. Красноватый отсвет его сумрачно дрожал в застекленной черноте книжных шкафов, горячо и суетливо теплился на золоченой бронзе канделябров. Великий человек тронул колокольчик. Возник длинноногий паж в зеленых чулках и по знаку кардинала зажег свечи.
Ришелье блаженно потянулся, стряхнул с атласного шлафрока вылетевшую из камина снежинку пепла, поправил красную крохотную скуфейку и глянул в венецианское зеркало. Его редкие белесые волосы явно требовали завивки, да и миниатюрную седую бородку не мешало немного подправить. Придется отдать завтрашнее утро куаферу [9]. Как-никак, а вечером парижский парламент дает ежегодный бал.
Читать дальше