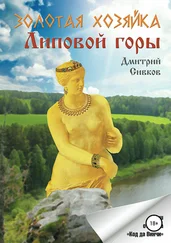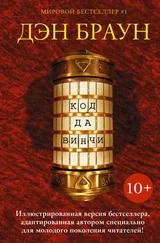Этот малый, надо отдать ему должное, оказался весьма и весьма деятельным. Как только в Греции началась революционная заваруха, он выходит в отставку из французского флота и вливается в ряды повстанцев. За два года Вутье не снискал большой славы – командовал артиллерией одного из отрядов, состоящей из двух-трёх пушек. Но в своих мемуарах, изданных по возвращении во Францию в 1823 году, предстаёт активным участником всех значимых сражений той кампании. Их правдивость иллюстрирует весьма показательный факт. Один из руководителей повстанцев Александр Маврокордато, наслышанный о популярности мемуаров французского соратника, попросил автора прислать ему экземпляр. В полученной им книге не оказалось многих страниц. Это дало основание греку сказать, что в оставшихся страницах, должно быть, не меньше лжи, чем в вырванных. Так что Оливье всегда был верен себе.
– …Кстати, – вдруг спросил мой новый знакомый, – истории о злом роке не наводят вас ни на какие аналогии из вашей жизни или жизни ваших друзей? Признаться, гибель человека, нашедшего в ваших краях клад древнего оружия, меня озадачила. Мало того, навела на ряд до недавнего времени казавшихся уж совсем нереальными выводов. Но для откровений я пока не созрел.
– Об аналогиях, – чуть помолчав, ответил я, – так сразу и не скажешь. А они действительно могут быть?
– Эх-хе-хе… – разочарованно протянул столичный профессор, видимо, ожидавший от меня другой реакции. – Могут, могут… и при том самые прямые.
– Тут есть над чем подумать. Пока лишь скажу, что меня в вашем, как всегда, весьма познавательном рассказе, упорядочившим мои знания в этом вопросе, зацепила одна деталь, к которой я бы хотел апеллировать.
– Вот как? Интересно! – Лев Николаевич, только что выглядевший уставшим от неудачи вывести меня на откровенный разговор, вновь оживился. – Сделайте милость.
– Перечисляя современные версии того, что могла бы держать в руках Венера Милосская, вы в несколько, как мне показалось, уничижительном тоне упомянули весло. Надо полагать, что имели при этом в виду тип парковых скульптур «Девушка с веслом», ставших своего рода притчей во языцех?
– Ну, допустим…
– Я так и понял. Скажу вам откровенно, что когда я стал проявлять интерес к теме Венеры Милосской (что теперь уже не является секретом), подобная аналогия и мне приходила на ум. Только я от неё не отмахнулся и выяснил, что не такая уж она и абстрактная. Дело в том, что у по сути безликого символа «бетонно-гипсового соцреализма» был весьма достойный оригинал. Первую «Девушку с веслом» изваял скульптор Иван Дмитриевич Шадр. Половина 1934 года у него ушла на выполнение заказа Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве. И вот в 1935 году скульптуру, изображающую обнажённую девушку во весь рост с веслом в правой руке, установили в центре фонтана на центральной магистрали главного парка страны. Творение к тому времени уже зрелому мастеру удалось: форма головы девушки была чётко обрисована, волосы очень туго натянуты и закручены в два «рожка», лоб и затылок полностью открыты, сама гипсовая фигура, высотой вместе с бронзовым постаментом около двенадцати метров, казалась весьма натуралистичной. От того и подверглась критике, как «излишне чувственная», «откровенно вульгарная», «чуждая советской общности».
– Действительно, возникают параллели с Афродитой Книдской Праксителя и его музой – гетерой Фриной, – подал реплику Лев Николаевич.
– Да, но будут и вертикали. Так вот, несоответствующую моральному облику скульптуру, слава Богу, не уничтожили, что по тем временам было делом обычным, а через год отправили подальше от столицы – в Ворошиловград, позже ставший Луганском. Там-то она и погибла во время войны. Сейчас её уменьшенная бронзовая копия есть в Третьяковской галерее, а где-то в Питере стоит гипсовая. Коротко скажу лишь, что спустя немного времени после ссылки статуи на Украину Шадр создаёт другой – более целомудренный – вариант, но и он забраковывается радетелями советской морали. Только скульптура другого автора – Ромуальда Иодко на эту тему, где физкультурницу нарядили в плавки и футболку, послужит моделью для тиражирования.
Тут, как мне кажется, внимания заслуживают два обстоятельства. Первое – есть большая вероятность того, что Иван Шадр – по паспорту Иван Иванов, взявший псевдоним от родного города Шадринска, – создавал «Девушку с веслом» под впечатлением от Венеры Милосской. Это легко угадывается в формах. Что и не удивительно. Ведь в 1910 году Шадринская дума, по ходатайству столичных художников Ильи Репина, Николая Рериха и других, выделяет земляку средства для обучения в Париже. Уральский парень учится в академии Гранд Шомьер, бывшей в первой трети ХХ столетия самой известной и популярной из всех парижских художественных школ. Среди его учителей сам Огюст Роден. Уралььский самородок имеет возможность копировать произведения, собранные в музеях французской столицы. Венера Милосская, конечно, первая среди них. И вот спустя четверть века Шадр наконец-то решается создать что-то подобное. Сын и внук богомазов, незатейливых церковных художников из народа, готов был воплотить то, о чём его родитель и дед, возможно, и помышляли, но никогда бы не смогли сотворить, в силу даже не другого уровня таланта, а слабой школы. Правда, судьба творения Ивана Иванова оказалась ещё более трагичной, чем у его прототипа.
Читать дальше
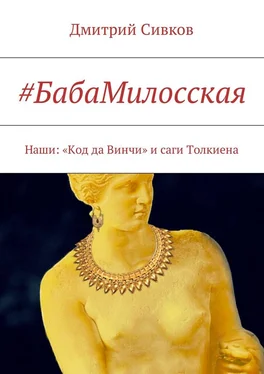
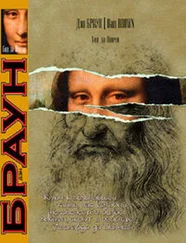
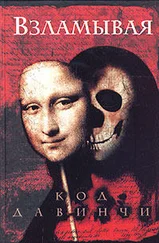
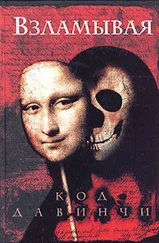

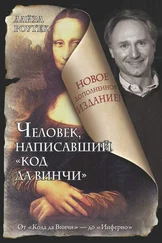
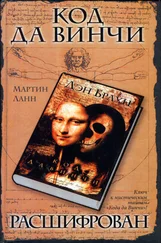

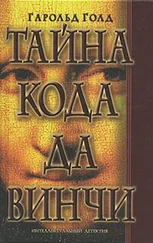
![Дэн Браун - Код да Винчи [litres]](/books/433567/den-braun-kod-da-vinchi-litres-thumb.webp)