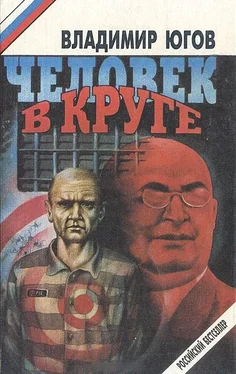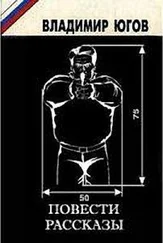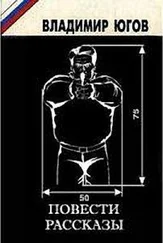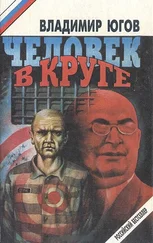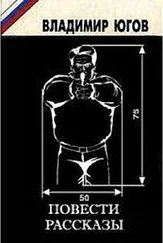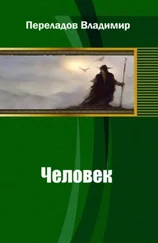— Выходит, — зло ответил солдат. — Когда сибиряки нужны были под Москвой, то они… — Смирнов закашлялся. — А теперь… Я шесть лет срочной тяну… А вы…
— Вижу, — сказал Шмаринов. — А как прикажешь с тобой поступать, ежели ты, давно став придурком — шофером ведь службу тянешь, — ухмыльнулся, — не смог его ссадить с седла! Когда последний раз из автомата серьезно стрелял по цели?
— Пару лет тому назад, — не стал хитрить Смирнов.
— Вот видишь! А ты ведь всегда пограничник!
— Я мотался на лайбе столько, сколько хотело начальство. Что приказывали делать, то и делал.
— Вас всех с границы нужно под метелку, — нервно засмеялся Железновский, показав ряд белых ровных зубов. Он, скорее всего, не ожидал, что его начальник придет сюда и увидит, как разукрашен солдат. Ему показалось, что Шмаринов, когда мельком взглянул на Смирнова, остался им, Железновским, недоволен (он уже за короткое время изучил своего непосредственного начальника).
Шмаринов затушил в пепельнице папиросу и только теперь увидел меня, унизительно стоящего и так и не нашедшего свой случай исчезновения из кабинета Мамчура.
— Ты по газете, что ли, к подполковнику пришел? — забурчал он, вдруг выстрелив взглядом в Железновского. И сразу, не дождавшись моего ответа, он знал всегда и все и кое-что еще, но его смущало присутствие своего подчиненного — он то ли не доверял ему, то ли боялся, — стал ощупывать меня своим сонным, на вид безразличным взглядом. — Послужить Отечеству не желаешь? Ты ведь, если мне не изменяет память, являешься в управлении дивизии секретарем комсомольской организации? Мы людей подбираем, чтобы сменить вот эдаких, извините за бедность мысли, сибирячков, которые стрелять по движущимся мишеням уже разучились… — Шмаринов оглянулся на Железновского, тускло глядящего куда-то на окно, потом перевел взгляд на меня и скрипуче сказал, не предвидя возражения: — Иди, пусть газету майор Прудкогляд делает. — А ты поедешь… — Теперь он посмотрел на Железновского жестко, начальственно. — Майор, надо встретить, — замялся, самолет. Круговая охрана нужна. Бери этого спортсмена-газетчика, — он кивнул на меня, — распоряжаться может. — И тут улыбнулся открыто, широко. — Взводом радиотелеграфистов командовал в школе сержантов артиллерии. Теперь вот на офицерской должности, хотя и старшина… Бери, майор, не ошибешься. Мы тоже тут кое-что знаем. — Шуткой похвала в мой адрес не обернулась — между ними что-то стояло. И Шмаринов, поняв это, шумно подошел к окну кабинета, которое выходило на юг, опять перешел на скрипучий наставительный уставной стиль. — Кувык наш и остальные с ним там. Тебе, выходит, самолет… Не встретим… Это… Это, майор… Это, считай, вышка для всех нас…
На улице, как говорится, буяла весна; воздух был божественно хорош после кабинетика цензора. Я перебежал улицу, зашел в типографию. Надо печатать номер.
Сидели и ждали уже солдаты, привезенные из гауптвахты, чтобы крутить колесо. Станок был допотопный, все делалось вручную, так и приходилось обращаться за помощью к непутевым солдатам, чтобы их физическими усилиями вышел номер, прославляющий лучших, а их критикующий.
Подписав еще раз свеженький номер, я зашел к редактору Прудкогляду. Обычно желтоватое его рябое лицо было сегодня еще желтее. Я знал его тайну, он рассказал мне о ней в прошлую осень, когда мы были с ним на рыбалке. Мы тогда с ним по маленькой клюкнули. Перед поездкой на эту рыбалку меня вызывали в политотдел и почему-то спрашивали, к какой, на мой взгляд, газетной квалификации я отнес бы квалификацию своего редактора? Я понимал майора, который со мной беседовал. В то время мои очерки, стихи, зарисовки печатались во многих газетах среднеазиатских республик — в Ташкенте, Ашхабаде… Следовательно, как такого, печатающегося газетчика, майор мог и спросить, несмотря на то, что я — старшина, а мой редактор майор. Ведь у квалификации не может быть ни офицерских, ни полковничьих звезд. Но насторожила меня пристрастность политотдельца. Он плохо говорил о моем редакторе (следовательно, и о газете), потому я горячо отверг все наветы в адрес Прудкогляда.
Он, оказывается, узнал о разговоре, который я, как мне виделось, вынес с честью. И Прудкогляд исповедался в тот осенний вечер на рыбной ловле. В 37-м его, пограничника, отстранили от службы. «Теперь бы я был чином не ниже полковника»… Прудкогляда долго держали в тюрьме. Первая жена от него отказалась. Отказались несовершеннолетние дети… И все-таки ни одну вину в свой адрес он не признал, твердил: «Нет, нет!»
Читать дальше