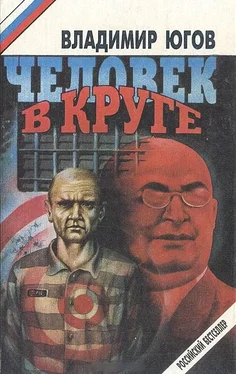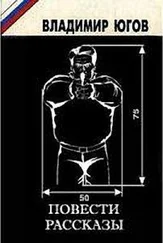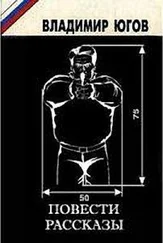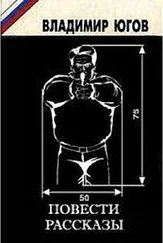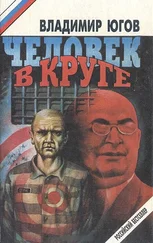Владимир Югов
ОДИНОЧЕСТВО ВОЛКА
Вертолет шел над западным выступом полуострова. Изгибаясь, внизу бежала маленькая речушка Карасавай. Пассажиры насупленно молчали. Старик-снабженец, возвращавшийся с Большой земли из отпуска, вчера, в пьяном откровении, рассказывал, за что попал сюда. Пятнадцать лет назад, тогда мужчина в соку, убил он полюбовника своей жены, некоего Митьку. Случилось это во время сенокоса. Убивал он Митьку косой. «Голову Митькину она подхватила и долго никому не отдавала, пока не приехала милиция»… Старик бубнил об этом себе под нос и заедал водку помидором, купленным в Москве на базаре. Теперь он, после отсидки, живет здесь. С ним старушонка. Готовит и стирает ему портки. А та, первая жена, проживает все в той же деревне, вдовует. Главное, дети тоже с ней не живут, считают — отец был прав, не блуди…
Журналист Квасников ехал на север в командировку, он, вспомнив Анну Каренину, развернул целый трактат по проблеме семьи и положении женщины в семье и обществе. Выпив порядочно, мужики с его жидкой, лежащей на яви, теорией не считались, и он горячился: снабженец хотя бы должен понять, что даже Каренин не только простил жене свои обиды, но оказался способным проявить великодушие к ее, если говорить попросту, Митьке.
Оба они — и убийца, и теоретик — теперь сидели рядом. Вертолет болтало, и Квасникова кидало порой к груди убийцы, и он дышал его перегаром.
После того, как вышли из вертолета, упал в снег здешний человек Иван Хатанзеев — истосковавшийся по родной земле. Упал вроде нарочно, а руки машинально сгребали снег: и два года, оказывается, длинная служба.
Первый пилот Кожевников, рыжий парень в лихо сдвинутой на затылок белой заячьей шапке, земляк Хатанзеева, проходил мимо.
— Маманя дома, гляди, сто раз выбегала? — Приятно осклабился. Ладонь приставит козырьком и глядит, а?
— Старушка-мать ждет сына с битвы, — присел на корточки и щелкал фотоаппаратом Квасников.
В шагах ста — аэровокзал. В густо засиненном воздухе, не похожем на воздух пасмурного утра и осеннего вечера, виднелся обыкновенный деревянный дом. На крыше — желтая большая труба. К деревьям, голым и черным, протянулись провода. Где-то в овражке чихает движок. Свет попадает на присмиревшие деревья за домом. Они красные на макушках. На разлапистой сосне хлопьями пристроился снег.
— Ну, мужики! — Старик Вениамин Харитонович поглядывал на Хатанзеева. — В вокзал, что ли, попрем?
— Зачем? — недавний солдат отряхивался от снега. — Или северный ветерок бьет русского мужичка?
Прямо на снегу он стал накрывать стол. Ваня всем так и говорил: выйдем на моей земле — загуляем! Ловко нарезанная колбаса укладывалась стопочками рядом с подмерзающими дольками лука. Бутылку спирта вынули из вещмешка. Она приятно побелела.
Все стояли в нетерпеливом ожидании. Стол постепенно становился царским. Кравчий Ваня старался не упасть в глазах общества — подрезывал сала, разворачивал крупные свежие помидоры, которые, видно, умненько сохранил, открыл две банки с маринованными огурцами.
— Тешь мой обычай! — Поглядел на старика. — Садись в головах! Ты тут долго был! — И вдруг присмирел: — Я два года, товарищ старшина, — это уже к недавнему своему старшине, которого вез к себе, — все это видел во сне! Вы рано утром будите нас: «Падйоом!» А я еще бегу да бегу по снегам. И каждый раз туда, туда! — Махнул рукой в сторону от вокзала.
— Шоб ее разбомблило, Ваня, эту твою землю.
Старик Харитон Вениаминович тяжело вздохнул.
Миша Хоменко, новоиспеченный на севере летный диспетчер, следовавший этим же рейсом, уловил в слове разбомблило родные мотивы и нервно рассказал, как его недавняя квартирная хозяйка ругала мужа: «Ханыга! Не можеш питы два видра андрациту прынесты? Я, баба, повынна их перты? А ты, ледарцуга, на лисапеди не хочеш прывезты?». Голос у Миши был трогательно чувствителен.
Квасников вынул блокнот и записал для себя свежие слова, переспрашивая, что такое перты . Недавний киевский студент отвечал хмуро: ему с самого начала не нравилась эта земля, выпавшая в последний день институтского распределения.
Пошла по кругу прилипающая к ладоням алюминиевая кружка.
Квасников, оказалось, неразведенного спирта не пил. Старик этого ему не простил, презрительно сплюнув в снег. Квасников ринулся к кружке, чуть прикрыл глаза, опорожнив спирт до дна, и долго, высокомерно глядя на всех, особенно на старика, дул в пустынную тундру. Там все лежало тихо и спокойно. Там лежал и поселок по имени Самбург, куда они все направлялись.
Читать дальше