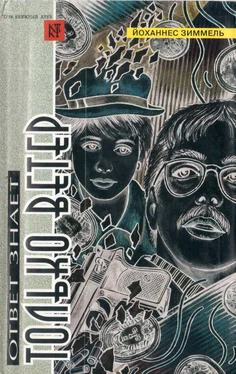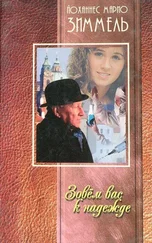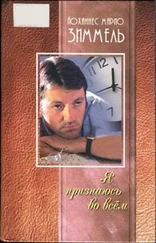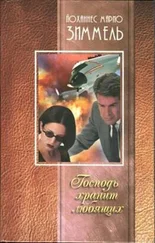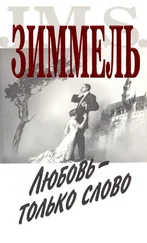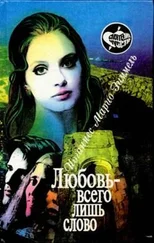— Вам плохо, мсье?
— Все в порядке, — сказал я и расплатился. Я с трудом вылез из машины, потому что наступать на левую ногу все еще было больно. Такси отъехало. На землю уже спустилась ночь. Долго же я сидел в лифте, подумалось мне. Странно, что до пожилой дамы он никому не понадобился. Странно. Все странно. Чертовски странно. И до смерти смешно. Проглотив несколько таблеток нитростенона, я, прихрамывая, вошел в холл.
Там было совсем мало народу, кое-кто удивленно уставился на меня. Скорее в номер, скорее добраться до моей комнаты. Я хотел забиться в него, как забивается в берлогу или нору раненый зверь. Силы мои иссякли. Остались лишь боль и страх. А еще отчаяние, возраставшее с каждой минутой, равно как и боль.
— Господин Лукас!
Я обернулся.
Гастон Тильман — как всегда, сама любезность. Его добрые глаза внимательно глядели на меня из-за стекол очков.
— О, добрый вечер, мсье Тильман.
— Добрый вечер.
— Я позвонил мадам Дельпьер. Она сказала, что вы ушли, вероятно, поехали в отель, точно она не знает. Поэтому я просто прогулялся сюда пешком из своей гостиницы «Карлтон» и здесь подождал вас.
— Зачем я вам?
— Вы ведь сегодня беседовали с этим господином Зеебергом, верно? Я тоже говорил с ним. И теперь мне хотелось бы побеседовать с вами. Что с вами? Вы не согласны сейчас беседовать? — Я быстро прикинул: если я останусь один, боли вернутся, вернется отчаяние, возможно невыносимое. Лучше не оставаться одному — даже если со мной что-то случится. Казалось, Тильман не замечает, в каком я состоянии. И я напрягся и взял себя в руки.
— Разумеется, я хочу побеседовать с вами, мсье Тильман. Может быть, в баре… или на террасе?
— И там и там слишком людно. Не знаю, может кто-то захочет нас подслушать. Не хочу рисковать. Здесь, в Каннах, я взял напрокат машину. Она стоит перед моим отелем. Пройдемся туда и немного покатаемся. По крайней мере будем уверены, что нас никто не подслушает.
«Пройдемся туда…» Боже правый, как мне дойти до «Карлтона»? Расстояние, конечно, ничтожное — но не для человека в моем состоянии. Что это значит — «в моем состоянии»? Я не имел права поддаваться боли или отчаянию, нет, не имел! И сказал:
— О’кей, пошли.
И мы пошли.
Не знаю, как я дошел до «Карлтона». Нога болела, как никогда раньше. Боль в груди иррадиировала во всю левую руку вплоть до кончиков пальцев. Я хватал ртом воздух. На тротуаре бульвара Круазет толпилось много веселых людей. Сверкали огнями магазины. Но я уже плохо видел. Я уже плохо понимал, что мне рассказывал Тильман. Что-то о разведении форелей, которым он увлекался. Он был страстный рыболов. Фары мчащихся мимо машин. Ласковый воздух. Звонкий женский смех. И люди, люди, люди кругом. Я толкал их, вслед мне неслись ругательства. Боль в ноге. Боль в сердце. Все сильнее. Еще сильнее. Надо было все же остаться в отеле. Безумие. Безумие все, что я делаю. И что делал раньше. Я ударил Анжелу. Не надо. Не надо. Не надо думать об Анжеле. Эти проклятые лекарства не действовали, совершенно не действовали. Я уже не могу нормально ходить, думал я, не могу сделать ни шагу. Но шел. И дошел до гостиницы Тильмана, до его машины, большого черного «крайслера».
Машина тронулась. Но поток машин на Круазет был так плотен, что мы продвигались вперед с черепашьей скоростью. То и дело Тильману приходилось тормозить. А мои боли не утихали, а усиливались. Но я готов был скорее умереть, чем признаться в этом. Почем знать, может, Тильман с перепугу отвезет меня в больницу, а там сразу дознаются, чем я болен, это станет известно Густаву и тот меня отзовет. Ну и пусть отзывает. Раз Анжела для меня потеряна. Потеряна? Да ни за что на свете!
— …кажется вполне убедительным. — Это говорит Тильман. Напрягись. Ты прослушал начало фразы.
— Простите, мсье. Я не слышал начала фразы.
Он искоса взглянул на меня.
— Я сказал: то, что Зееберг рассказал о своем шефе, кажется мне вполне убедительным. А вам разве нет?
— Да. То есть нет. — Грудь опять сдавило тисками, я их уже явственно ощущал. О Господи, спаси и помилуй.
— «Да, то есть нет», — кивнул Тильман. — Это самый точный ответ на мой вопрос. Очевидно, Хельман делал вещи, которые неминуемо разрушили бы его имидж безупречного банкира, если бы стали известны. И мне кажется, что они в самом деле стали известны — во всяком случае, после своей речи в отеле «Франкфуртер Хоф» он бросился в свой банк и перерыл все бумаги в отделе Зееберга.
— Да. — Больше я ничего не мог выдавить. Тиски уже намертво сжали мою грудь. Я выпрямился на сиденье и, тяжело дыша, лихорадочно крутил ручку окошка справа. Воздуху!
Читать дальше