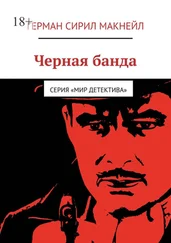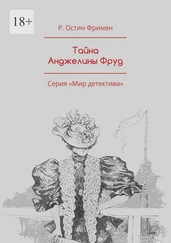Имам потребовал ее к себе. У него был каменный дом с садом и с домиком в саду для его жен.
– Он сделал меня своей женой. Я убила бы себя, если бы могла. У меня не было способов… Человек привыкает ко всему… Он не был недобр ко мне.
Этими краткими словами она изложила историю двадцати страшных лет. Имам вел торговлю на юге, вплоть до Занзибара, на запад – вплоть до Адена. Он отложил деньги в Адене, и этой весной, взяв с собой жену и небольшое количество слуг, отправился на паломничество в Мекку. В Джедде, на обратном пути, он скончался. Ей осталось крупное состояние.
– Так вы теперь свободны! – воскликнул я по глупости.
Она сидела, как каменная. И ее молчание служило мне ответом. Как могла она быть свободна, когда влачила за собою цепь этих двадцати страшных лет? Она сказала:
– Я слышала, что все, кто остались на обломках парохода у Сокота, были спасены. Это правда?
– Да.
– Был там плантатор с Явы?
– Мистер Триник. Да.
Честное слово, Триник как будто бы стоял передо мной! Я видел его так ясно. И незначительные черты его лица, и кожаный бювар с двумя портретами его дочери, и огромное отчаяние, которое окутывало его достоинством. И вот теперь в той же самой комнате, через двадцать лет, находилась его дочь. Я в этом не мог сомневаться. Девушка с мудрыми и спокойными глазами, и удивительно одухотворенным взглядом – чего она ждала в те дни с такой уверенностью? – и этот ворох платьев были одним и тем же существом, только через промежуток двадцати лет ужаса.
– Что он сказал? – спросила она.
Я не хотел ей этого говорить.
– Он был вне себя. Он хотел, чтобы обыскали берег, чтобы найти обломки шлюпки. Мы и производили поиски – министерство торговли и компания «Даггер».
– Да. И что же?
Это был прямой вопрос. Я говорил ей о вещах умерших, конченных. Она не отставала от своего вопроса.
– Он собирался обосноваться в Ливерпуле. Ему было страшно ехать туда одному. Он оставался здесь, пока не убедился, что ему все-таки придется ехать одному. Тогда он отправился в Англию.
Она сидела неподвижно, молча некоторое время. Потом вдруг сдержанность ее оставила.
– Что мне делать? – простонала она, и ее возглас прорезал воздух, как нож. – Я думала, что он скажет хоть слово.
Ей был нужен кто-нибудь знакомый. Я спрашивал себя, зачем она пришла ко мне. Конечно, не для того, чтобы обсуждать, кому принадлежат часы. Но теперь причина была ясна. Для того выбора, который ей предстояло сделать, она хотела раскрыть книгу и ткнуть пальцем в фразу, которая показала бы, какой путь избрать. Я сидел и смотрел на нее. После этого одного возгласа она снова казалась спокойной. Она спряталась в обволакивающий ее кокон. У нее не было формы, не было лица. Только воспоминание о ее возгласе предупреждало меня, что следует быть осторожным. Дело было в том, что я обладал тем словом, которое она спрашивала.
На расстоянии все это кажется легко. Но в то время я сильно колебался, вспоминая те две фотографии. Мне хотелось, чтобы она вернула себе все то, что возможно, из той жизни, которую обещали эти фотографии; конечно, остатка жизни, не больше. С другой стороны, можно ли было еще что-нибудь вернуть? Если предположить, чтобы она поехала в Ливерпуль, если бы предположить, что она застала бы своего отца живым – какая жизнь ждала бы их обоих? Мир, разумеется, немало продвинулся вперед за последние двадцать лет. Но достаточно ли? Разве не было предрассудков, укоренившихся в крови, которых не могла скрыть самая либеральная полировка воззрений? Как бы то ни было, сделать выбор должна была она. Я сказал, одолевши в себе внутреннюю борьбу:
– Ваш отец сказал больше, чем я вам передал. Он сказал: «Я хочу убедиться в том, что моя дочь умерла».
Она двинулась или, скорее, наклонилась вперед на своем стуле. Я думал, что она готова лишиться чувств и падает на пол. Я вскочил с места. Но из глубины складок ее платья протянулась рука и остановила меня. На самом деле она только преклонялась перед посланием.
– Двадцать лет! – сказала она. – Горе само уничтожает себя за такое время. Что бы я внесла, кроме смятения?
Понизив голос, она добавила:
– И он тоже теперь, во всяком случае, обретет мир.
Она поднялась со стула.
– Не рассказывайте никому о моем посещении.
Она не стала ждать ответа. Она ушла раньше, чем я успел подойти к двери. Я услышал, как отъезжает коляска. Через некоторое время я вспомнил про хронометр и телеграфировал Папаяни, чтобы он отдал его, когда за ним зайдут. Но никто за ним не зашел.
Читать дальше