Семейная реликвия – только не ваша.
Она была моложе матери и сохранила не просто следы красоты, нет, она сохранила саму красоту, она была хороша для своего, не совсем понятно какого, возраста, она была довольна и счастлива, как девушка на картине.
Не знающая, что на соседней картине притаился ее убийца.
35
В глубине темноватой комнаты, в самом углу, стояло изумительной красоты старинное зеркало – под потолок, в черной, тяжелой, резной раме, с небольшим, тоже резным подзеркальником, чуть мутное и словно не отражающее, а поглощающее нерешительный луч осеннего солнца, косо падающий на него из окна.
Зазеркалье было затуманенным, старинным, вобравшим в себя отражения нескольких поколений смотревшихся в него или просто проходивших мимо людей, или этот эффект создавал царивший в комнате полумрак? Полумрак в солнечный день казался приятно прохладным – и тоже почему-то старинным, как будто его сохранили здесь специально с каких-то незапамятных времен.
– Помните, я вам говорила про Орхана Памука? Я нашла это место, вот даже закладку оставила, – Вера решительно не помнила, когда Елена Георгиевна говорила что-либо подобное, и ярко-красная книга турецкого писателя, нарочно оставленная на стоящем в центре комнаты круглом столе с тяжелой скатертью, оставила ее равнодушной. Она не любила, когда ей зачитывали вслух цитаты. Хуже только пересказ фильма, которого ты не видела, или, не дай бог, целого сериала.
Но Елена Георгиевна оказалась на высоте: она просто протянула книгу Вере, указав на отмеченный карандашом абзац.
„…некоторые замечательные рисунки, – невнимательно пробегала глазами Вера. – Волнение влюбленных рассекало страницы, как крыло ласточки… влюбленные, издалека поглядывающие друг на друга… обратить внимание на скрытую игру красок… волшебный свет, струящийся из каждого уголка рисунка… – кажется, у него есть роман о художниках, вспомнила она, надо бы прочитать, особенно теперь, когда… когда ее жизнь снова связана с Турцией. – Умеющий видеть сразу поймет, что здесь изображена любовь. От влюбленных, откуда-то из глубины рисунка, струится свет“.
– Я надеюсь, вы – умеющий видеть? – спросила Елена Георгиевна, внимательно следившая за Верой и понявшая, когда та дочитала до конца абзаца. Вера не успела толком понять, о чем ее спрашивают, когда Елена Георгиевна взглядом указала ей на противоположную стену.
Зеркало стояло под углом, и картины не отражались в нем. Поэтому она и не увидела их, как только вошла. Да и само зеркало привлекло ее внимание, и она не успела посмотреть по сторонам.
Но сейчас Вера совершенно забыла о нем: позади нее, на пустой, видимо специально освобожденной ради этого стене, висели две картины. Длинные и узкие, в разных, но похожих по стилю рамах, они казались одним полотном, по чьей-то прихоти разрезанным надвое. Вернее, не полотном, подумалось ей, это же шелк, разве можно так сказать о шелке – полотно?
Юноша и девушка, садовник и садовница, что-то делали в саду, но… но умеющая видеть Вера сразу поняла, что здесь изображена любовь. Она видела это так ясно, словно любовь можно было так же точно и педантично выписать тонкой кистью, как были выписаны каждый листочек на кустах и каждая иголка на причудливо изогнутой сосне. Руки влюбленных, разлученных багетчиком, были заняты делом: бледная, изысканно причесанная девушка собиралась срезать ветку садовыми ножницами, а юноша приближал нож к какому-то странному цветку. Но глаза их смотрели друг на друга, и взгляды их встречались где-то вне пределов картин, вот прямо здесь, в этой комнате, они действительно рассекали пространство, как крыло ласточки…
– Они должны быть вместе, правильно? – дав ей насмотреться и освоиться в картинах, произнесла Елена Георгиевна. – Вот они и встретились наконец.
Влюбленные не улыбались: то ли чувство их было слишком серьезно и важно, то ли слишком ново и сильно, и его нельзя было облегчать и упрощать улыбками. Или они такие грустные из-за того, что любовь их нежеланна, запретна и им грозят препятствия – вроде тех рам, которые разлучают их?
На картинах не было счастья – только любовь.
И вообще почти ничего не было, во всяком случае ничего лишнего.
Тонкий, еще больше истончившийся от времени сероватый шелк не был раскрашен, даже сада почти не было – так, разве что его лаконичный символ: сосна, куст, протянувшаяся откуда-то ветка, цветок. Пустое пространство было заполнено не элементами пейзажа, а чувством, и от этого не казалось пустым. Воспитанным в европейской традиции такая картина могла показаться незавершенной, наброском, а не законченным произведением, но для восточного восприятия этого было достаточно. Домысливать – дело смотрящего, и художник оставляет простор, уважая его право понять картину по-своему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

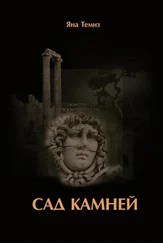






![Виталий Кондор - Последний Рай на Земле [litres]](/books/399157/vitalij-kondor-poslednij-raj-na-zemle-litres-thumb.webp)



