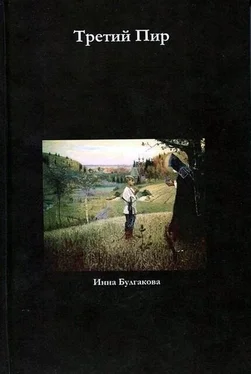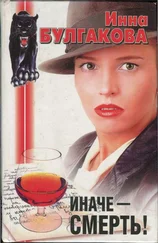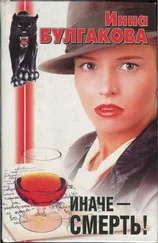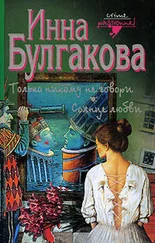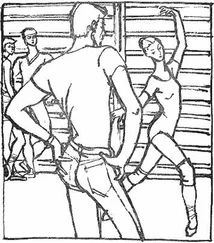— Где жених?
— Воистину странно! — воскликнул пораженный хозяин. — Входите и присоединяйтесь.
Уже предчувствуя конец, Митя вошел в предзакатную комнату.
— Но где жених? — и присутствующих перед закатом словно опалил жар бичей.
— Мы не знаем.
Он повернулся от них к дверям, хозяин закричал:
— Погодите! Да разве Вэлос жених? Тут что-то да не так! (Митя, не отрываясь, глядел на него.) Нет, он не жених, и она не невеста, а чья-то жена, с обручальным кольцом на правой руке. Может быть, ваша жена?
— Была моей.
— Ну так что же вы?
— Я не хочу жить, — ответил он себе, забыв обо всех.
— Митька, пошли!
— Погодите! Она ушла с юношей… был же еще и юноша.
— Алексей Божий человек, — процедил левый. — С Бежина Луга, что на Святой Руси. Так что не отчаивайтесь.
— Не святая и в отчаянии, — вмешался правый, — подземная, потаенная — и все-таки Русь!
— А была ли она? Или миф? Или на зеленом лугу, где Восток встречается с Западом, строится Новый Иерусалим, точнее Вавилон? Так! — левый.
— Да разве уже сказано последнее слово? Разве мы всего лишь избранный навоз для будущих братских могил на братских лугах? — правый.
— Погибающий — и все-таки избранный, — сказал Митя уже при дверях. — Только избран он не на брачный пир.
— Погодите! — хозяин налил красное вино в серебряные стаканчики. — На какой же пир избран русский народ?
— На смертный. Принять удар сатаны.
— И принял?
— И принял. И погиб.
— Вы так уверены?
«Уверен!» — хотелось сказать, но отчего-то не выговорилось.
Итак, подпольный жених уполз в подполье, покойник не состоялся, трагедия, как у нас водится, кончалась разговорами, и национальная водочка никак не превращалась в кровь. Закатные лучи на Садовом кольце (а где ж тот сад? совсем близко, наискосок, через улицу, через двенадцать лет! в полуподвале, где снимали они убогий угол в распахнутый майский сад!), Символист, инвалид, «запорожец».
— Куда теперь-то?
— Прощай, дядя. Герцен рядом.
— Аж жалко. Очень вы мне, ребята, понравились.
— Взаимно. За какой подвиг получил свою душегубку?
— Горел в танке на Орловско-Курской дуге, — и канул в закатный огонь не сгоревший дотла на Бежином Лугу русский воин, ребята побежали через улицу, где наискосок в минувшем цветущем подвале… Митя бросил на ходу:
— Ладно, Никит. Я поехал главу кончать.
Никита кинулся за ним, не догнал, долго глядел вслед — кому? чему? какому тайному промельку? — наконец выразительно выругался, встряхнулся — и загудел, воскресивши свои горькие останки только на третий день. А пропащий друг его уже творил новую главу, он безумно спешил: ведь она на крыльце, в их саду, в их вечном саду, ждет его, как всегда.
Ее не было, меж тем как он отчетливо ощущал, что отпетая парочка разбежалась; он ощутил это в переломное мгновение, когда смотрел через Садовое кольцо на старый дом с полуподвалом: еще одна душа была у них на двоих, еще не разорвалась она в пролитой крови. Митя вздрогнул и захохотал. Он гонялся по Москве-матушке с немецким пистолетом за любовником своей жены — жалкий дурак Апокалипсиса, вышедший на битву с сатаной (пошлая пародия на дурачка и чудо-юдо).
— Иисусе Христе, Сыне Божий, — пробормотал нечаянно, отчаянно, сквозь смех, — помилуй мя грешного! — детскую, бабушкину еще молитву. — Верни мне душу!
Ее не было, благоуханная, в цветах и птицах, пришла отчаянная ночь. Помилуй нас, грешных. Он поднялся на заметенное снегом крыльцо в другую, возлюбленную ночь. «Узна ю возлюбленную по пряди волос». Он попросил ее распустить волосы, и школьная коса рассыпалась по плечам ее и рукам, по лоскутному одеялу взлетающими яркими паутинками, каштаново-красными, драгоценными на ощупь прядями. И несостоявшийся покойник забавлялся этими и всеми прочими вполне доступными драгоценностями («Спутались они давно, года два уж, наверно. Причем она сдалась сразу, с первого захода») — картинка для Мити абсолютно противоестественная, как если б не Поль, а сам он возлежал в обнимку с милым своим дружком в каком-то падшем подлом тупичке, где воздуху не хватает… что-то поднимается, тянется из детства (нет-нет да и грянет школьный хор: «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!»), из того счастливого алого детства, когда под бабушкину молитву, «под салютом всех вождей» что-то связало его на всю жизнь с покойником (что-то, как-то, где-то — уникальная, гениальная, как выражался Вэлос, Митина память в отношении детского друга нет-нет да и давала странный сбой).
Читать дальше