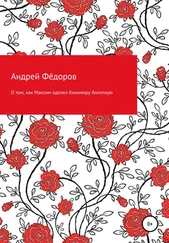Но предварительно Степанов собрал в рыхлую стопку все бумажки со стола и присоединил к ним бумажку из пиджака Ялдыкина. Все это он положил себе во внутренний карман, а тетрадки, скрутив в две упругие трубы, с трудом забил в карманы шинели. Подошел к стене, общей с Егошиными.
— Если ты обои отдирал, то — вот здесь. И обратно, смотри-ка, приклеено! Значит, все! Тут! Значит, ты дыру дрелью просверлил, приготовил загодя шпаклевку. Ох, спешил небось! Вдруг бы кто из них вернулся? А потом тебе надо было через шланг целую канистру бензина туда залить, под клавесин; сунуть в дыру огонек и все замазать. А потом подождать, пока орать на улице начнут, и принять участие — с той стороны проверить, все ли аккуратно… лучше бы ты настройщиком клавесинов оказался, честно! Бензин-то в гараже просил? Это я могу проверить. Но не буду. Рисковал! Ну, ты ж знал, с какой пожарной командой дело имеешь! Они вон на Луну не побоялись. И эти такие же… Эх ты, честная сволочь… А Лялька Писарев тут особо копать не будет, не надейся! Несчастный случай. А что? Думаешь, он отпечатки пальцев будет проверять на ампулах? Тут их теперь хватает. И мои есть. А на шприце — твои.
Степанов откатил носком сапога шприц с ладони покойника:
— Упал, глянь! Сам упал и покатился! Он же круглый, чудак! А вот эти бумажки и тетрадки вот эти я сожгу! Точно! Положу все в мусорное ведро, понял? Хламу у меня там на работе! Сто лет не чистил. Заодно. Вот только ту, первую тетрадь жечь не буду, о ней слишком много народу знает. Ту я положу в сейф. И я, между прочим, боюсь, что скоро он у меня совсем не откроется. Надо скорее оттуда бутылку спасать… Да! Спросят, например, почему я сюда-то пришел? А я же не к тебе шел! На черта ты мне нужен! Шел я к бабке Фроське, потому как объявился слух, что у нее как раз тот самый кусок «лесной нимфы» обнаружился. Она его, представь, замест манекена использует. Бюст. От чего у всех девок наших в ее блузки груди не помещаются. Такую-то красоту замест манекена! А? А к тебе я случайно в дверь стукнул, чего, мол, как здоровье? Все? Пойду жечь, а потом буду Ляльке Писареву звонить.
Степанов вышел на лестницу и прикрыл дверь за собой. Внизу сияло круглое окно, полное яркого снега. На ступеньках лестницы покачивался от сквозняка комок бумаги. Может, его выдуло из комнаты Ялдыкина?
Степанов расправил комок. От руки. Буковки заползают в складки, прячутся, морщатся. Но ничего, почерк хороший.
Заявление
Довожу до Вашего сведения, что теперь я хотел бы срочно выехать в дальнее селенье с климатом и жить там один. А то тут я больше жить не могу! Сейчас такое время! Нас, простых служащих, могут убивать, если не вмешаются! Я должен за всех отвечать? Кому Вы дали власть?! А я что мог?! Вы же меня тоже могли расстрелять, ломали бы мне кости! Мы все работали честно! Аза Чуйкина знает, что я выполнял свой долг! А что у них было взять? Евангелья?! Графские ложки?! Этот проклятый клавесин был мне нужен?! Вы учили выявлять таких! Я что?! Сам это все придумал?! А теперь мне страшно тут жить! У меня сердцебиение! Пульс сто тридцать четыре удара в одну минуту! А вызови врача?! Что тогда?! Она меня ненавидит за своего мужа и за свою подругу! Я вызвал, а она мне сейчас введет не то! А я тоже человек! У меня тут за стеной плачут! Она…
— Кто человек? — удивился Степанов. — Ты? А вообще-то, конечно. Все правильно. Ты — несчастный случай. А необходимость, она, как говорится, прокладывает себе дорогу сквозь толпу случайностей. Диалектика. Пока диалектике верим. А ты, Ялдыкин, несчастная случайность. Устраивает?
Степанов сунул листок в кучку «копий», в тот же карман.
Спускаясь теперь туда, к зиме, к снегу, он долго еще слышал стрекот швейной машинки и детский радостный голосок бабки Фроськи:
Эх, мы расстаемся наве-е-ки,
И затихают шаги…
В уборной одного московского театра делала «па» балерина Ташевская. От ее скачков проседали слегка половицы, пищала дверца шкафа, а отражение лампочки в стакане с коньяком болталось, сплющивалось и распадалось на четыре звездочки.
Балерина делала свои «па», но думала о другом, о разном: о том, что бретельки натерли плечи и там уже саднит, что не поедет она нынче на южный берег, так как у Ржевского вроде бы другие планы. Ржевский же сидел на диване напротив шкафа, рядом со столиком, на котором и стоял как раз стакан с коньяком, а еще — тарелка с кубиками белого свежего хлеба. На каждом кубике, на комочке масла светились черными капельками икринки.
Читать дальше





![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)