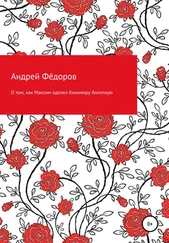— Полюбил ты Егошину-то! Молчащие-то страшней всех, видать! То-то тебя как раз к ней под бок подселили!
Далее следовала Малахова А. Н.
— Привет, баб Грунь!
«…говорит при скоплении общественности, что раньше было «веселее» (когда это?). Критикует вышестоящих лиц неоднократно, называя их «долдонами», вызывая сочувствие у уголовных элементов. Общественность способна призвать к действиям и антисоветскому образу мыслей, так как говорит, что думает. Меня ненавидит. Ранее была распущенной в половом смысле. Подлежит УКВН».
Далее какое-то неведомое «лицо меня заменяющее» Ялдыкин вяло упрекал в порнографии и ставил шифр «ЧСИР».
— Хватит, — Степанов положил тетрадь в сейф и снял трубку:
— Володьк? Это Николай. Ялдыкин там на месте? Ты смотри! Да-да! Образец! Канцобразчик. Да, не похоже на него. Не иначе — заболел. Ладно, мне все равно в ту сторону. Да. На днях пообщаемся.
— Чсир, укэвээн! — Степанов торопливо одевался. — Ххмыррь!
Последние дни зимы. Деревья стоят в воронках, тропа провалилась, почки приготовились лопнуть… Хруп, хруп, хруп…
— Счет?! Заспал я!
— Восемнадцать на двадцать четыре! Укэвээн!
— Кранты-ы-ы! — аполитичный дед Евгран удалился за сосновую колоннаду.
А княжеский дом сиял окнами, приближался, навис над Степановым как туча.
Он прошел меж мертвых юношей-фараонов в просторный подъезд особняка, заставленный санками и ящиками, и поднялся по барской лестнице навстречу детскому радостному голоску глухой бабки Фроськи:
Вдруг слышу — шаги раздалися,
Наверно, мой милай идеть…
— Идеть, — согласился Степанов, — приближается!
Он подергал дверь к Ларионовым и только потом подошел к двери Ялдыкина — ближней к лестнице. Дверь была приоткрыта.
Ялдыкин лежал на полу вполне одетый, очень длинный и важный, как полагается покойнику. Белое лицо, белые брови, косой черный взгляд из-под век.
В ладони правой руки блестел шприц. Левая рука от сотрясения пола (Степанов стал приближаться) соскользнула с живота и, медленно разогнувшись в локте, легла вдоль тела.
На столе: обломанные ампулы, стопка бумажек и тетрадок, грязный стакан, тарелка с надкушенным бутербродом.
Степанов перебрал бумажки: копии всех трех «заявлений» и выписанные на отдельный листок «угрозы». Четыре тетрадки в коленкоровых переплетах. Под номерами. Видно, все здесь — полный отчет.
Ялдыкин — аккуратист. Значит, если он не вышел из дома, как обычно в восемь сорок, и ни с кем не сообщил на работу, почему он не вышел, значит, собирался выйти. И лежит вполне одетый, разве что без пальто и без своей собачьей шапки. Получается, что смерть наступила часа два назад.
На трех ампулах одна и та же надпись: SOL. STROPHANTINI 0,05 %. Одна ампула из-под глюкозы. Это все он мог ввести себе сам.
Копии заявлений и тетрадки — предсмертная пакость? Попытка мертвого схватить живых? Все ли тут?
Степанов приблизился к трупу. Присел. Коснулся правого запястья. Слабое тепло — остатки какой-то «химической» жизни.
Левая манжета расстегнута, левый рукав пиджака задран почти до локтя. Резиновая трубка-жгут так и осталась под рукавом. Он делал сам себе уколы?
Стул лежал в стороне, растопырив ножки, спинка же его упиралась в непристойно распахнутый шкаф, обнаживший всю свою холостяцкую универсальную предназначенность: на верхней полке, за зеленоватой порослью хрусталя прятался, как гриб-шампиньон, алебастровый, усатый бюстик; на средней полке — белые узелки (с крупой или сахаром?) были все повернуты в одну сторону туго перевязанными «шеями», словно застыло стадо гусей; в самом низу шкафа, в ряду тускло-серых книжных корешков зияла, как после выбитого зуба, дыра, примерно равная общей толщине «номерных» тетрадок.
Степанов опять присел и проверил карманы у Ялдыкина. Отвратительно много карманов. В одном пиджаке — семь. Есть еще бумажка. Незнакомая: «Доносчика ожидает страшная смерть». Что правда, то правда.
Он случайно надавил на живот. Труп вздрогнул, как резиновый, и из-под него выбежал таракан.
— Ха!.. — шепнул Ялдыкин, и струйка пенистой сукровицы брызнула из угла рта.
— Тебе все смешно? — удивился Степанов.
Ему понравилось говорить с покойником:
— На тебе-то больше нету ничего. А если в закромах каких? Что? Да нет, по логике вещей, тут должно быть все. Все выставил. Или не ты? У меня есть еще вопрос: почему дверь приоткрыта? Не хотел нам затруднять работу, не хотел в одиночестве долго лежать? В восемь сорок Ларионовых уже нет. Фроська глухая. Дверь твоя к лестнице первая. А? Никто не помог тебе? Или совесть заела? Говоришь, мол, такого быть не может? Согласен. Или ты со страху решил сильно вылечиться? Смотри у меня! Часа через два Лялька Писарев приедет расследовать. Он тебе даст… А почему шприц-то у тебя в ладони? Вон падал как! Аж стул к шкафу отлетел! А шприц — в ладошке. Не отлетел. Как-то демонстративно? Или как? Хотя мало ли бывает… Да, ты разреши уж, я посмотрю, как ты тогда клавесин-то поджег…
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)