Он знал, что назовет сына колокольным именем: Ан-тон. Которое будет менять тон, крепнуть и глубже звучать год от года — и в этом будет только логика, только ПРАВДА. В имени Жанна не было правды… Оно, наоборот, все мельчало, обесценивалось, протиралось, линяло, рвалось на части… Оно было чужим и случайным — как подобранная на дороге бумажка, обрывок текста… Оно ни о чем не говорило… как и имя Катя. Катя — это наивное, с торчащими кудряшками, как ни причесывай, все равно не соберешь: вечно махрится по всей голове, выбивается то на виске, то сзади… Катя — это один носок всегда спущен и у юбки то подкладка отпоролась, то змейка разошлась… Катя — это ситцевое, именно ситцевое, а не батистовое Настя, или сатиновое прочное Татьяна, или трещащее ацетатными искрами Юлия, или же Полина — имя из натурального шелка, гладкого, тяжелого… Катя — это румянец на щеках, вот тут, тут угадали, как она краснеет, эта Катя! Но больше… больше ничего…. Как жаль! Он бы придумал ей более подходящее имя — но что ему Катя! Когда рядом мучилась Джен-Дженни-Йена… птичка! Кто прав? Она, он, девушка с неподходящим именем Катя и нервным, неровным закатом румянца?
Может, в самом деле та, что потребовала звать себя Жанной, что-то ищет… Ищет и не находит? Он ей чего-то недодает… да! Каких-то витаминов любви… И как можно было ему — ему! — замкнутому, зацикленному на себе, повернутому вечно в себя, вовнутрь, — как можно было ему вообще к ней приблизиться?! Он не мог дать ей того, чего она хотела, — и столько, сколько она хотела. Не потому что у него этого не было — напротив, у него ЭТОГО было в избытке! Но если говорить, повторять это слово, которое она желала слышать каждый день, оно сначала потеряет звучание, а потом и вовсе станет ничем! Как объяснить, что даже у слов — и в первую очередь у слов! — истирается оболочка, а потом и распадается, и то, что было в нее облечено, испаряется без следа? Становится розой без запаха… а потом и той, что внезапно приобретает запах: но это уже дух тления, распада, конца.
Снег не всегда пахнет снегом, зима — зимой, так же как музыка не всегда бывает звуком. Наверное, это порой невозможно представить… и он — не тот, кто может это внятно объяснить. Более того, он не хочет этого объяснять. Неспособен. Как некоторые неспособны понять бесконечность Вселенной и конечность жизни.
Он любил ту, что спала — или не спала? — в соседней комнате; он любил ее бесконечно — или конечно? — с того самого дня, когда она шла по улице, будто по тоннелю из поставленных друг против друга зеркал, и держала в руках цветы — желтые, бессонные, цветы-якорь, цветы-знак, цветы-ключ.
Он просидел тут, раздумывая, как ей помочь в этот раз и как ЗАСТАВИТЬ принять помощь! — принять, не разрушив и не сломав ничего, что они выстроили вдвоем в их собственном зеркальном тоннеле. Ночь уже заканчивалась, шла на убыль, менялась, линяла, будто змея, и выползала из старой кожи: начинался рассвет. Та же змея становилась утром: свежим, обновленным… хотя до этого еще далеко. Он успеет. Постарается успеть. Еще не поздно содрать с себя все, словно ставшую тесной кожу — оболочку, кожуру… УПАКОВКУ. Снять, как оболочку со слова: не рассыпав, не растеряв, не смяв содержимого. Которое тоже постоянно меняется… и меняет тебя самого. Снять — и предъявить самую суть. Ему кажется, она сумеет… она поймет!
— Ты спишь? — спросил он осторожно, хотя уже по ее дыханию с порога услышал, что она не спала. Что не могла уснуть. И даже не попыталась.
— Я?.. — спросила она испуганно и сделала только половину вдоха. Сердце же ее между тем стукнуло три, нет, четыре раза, а потом и вовсе сбилось с ритма.
Он слышал это — и его собственное сердце сжималось от боли, от сочувствия, сострадания, желания помочь… которого она не принимала, как не принимала и всего остального.
Почему?!
Почему, когда он решается принести ей всего себя, все оказывается напрасно?!
Он не мог этого понять. ПОКА не мог. Но он старался. Старался прорваться сквозь всё возводимые и возводимые ею стены, преграды, препоны, тупиковые ложные ходы… ведущие в никуда зеркальные тоннели без отраженного в них света от желтых цветов. Без ее лица, повернувшегося к нему только на одно мгновение, но в то же мгновение узнавшего его! И отринувшего! И отказавшегося!
Но он попытается еще раз. А если будет нужно — то и еще.
— Это я, — сказал он тихо.
Зачем сказал, когда мог не говорить? А зачем мы даем имена людям, и предметам, и запахам, и звукам, и даже чувствам? Даем имена ложные и настоящие, придуманные и подлинные? Имена-подделки — и порой такие искусные подделки, что от настоящих не отличишь! Имена-мистификации, имена-шоу, имена-тюрьмы, которые только и делают, что всю жизнь держат владельца под замком! Мы даем имена еще и потому, что без них ДРУГИЕ не узнают очевидного! Не могут этого сделать. Не умеют, пока не прикажут: «Брось костыли и ходи!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






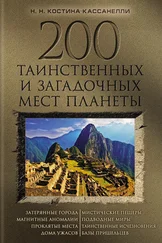


![Наталия Костина-Кассанелли - Найти, чтобы потерять [litres]](/books/397958/nataliya-kostina-thumb.webp)


