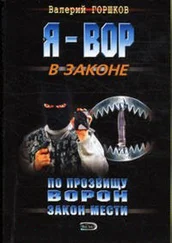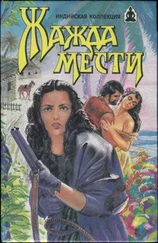Владимир Наумович надел халат, зажег свечи на сервированном столе и пошел открывать дверь.
Гостем Милославского был седой, розовощекий, породистый старик, полковник внутренней службы, всю жизнь провоевавший на интендантских складах. Звали гостя Грибов Иван Николаевич, и знаменит он был тем, что, будучи помощником военного коменданта Дрездена, сумел, как говорили злые, но хорошо осведомленные языки, вывезти пару небольших картин кисти Рембрандта стоимостью, превышающей годовой бюджет города.
— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Иван Николаевич! Проходите, пожалуйста, заждался я вас, заждался. Позвольте чемоданчик. — И Милославский заботливо протянул руку к дипломату гостя.
— Что вы, не беспокойтесь, уважаемый Владимир Наумович, я сам. — Грибов резко отдернул руку с дипломатом.
Милославский понял, что опережает события, и расплылся в гостеприимной улыбке.
— Да я и не беспокоюсь вовсе. Просто я, как хозяин, хотел помочь. А нет, то… как вам будет угодно-с, как угодно-с, — затараторил Милославский, незаметно для себя перейдя на лакейский язык. — К столу, дорогой, к столу. Вначале закусим чем бог послал, а потом о деле.
Гость не стал возражать и удобно расселся в кресле, однако дипломат поставил под столом у себя между ног.
Стол был сервирован так, что графины с водкой, коньяком и домашней наливкой стояли по оба его края.
Каждый из двоих сидящих за столом мог не вставая ухаживать за собой.
— Вы что будете? — спросил Милославский. — Я — наливочку.
Каждый налил себе.
— Ну-с, за удачную сделку, — сказал Милославский и залпом выпил налитую в рюмку наливку.
Грибов выдохнул и маленькими глотками, явно смакуя, выпил свою водку.
— Хороша, мерзавка! — Милославский довольно мотнул головой.
— Ваша правда. — Грибов крякнул, хрустя огурчиком.
Они еще немного выпили, поговорили ни о чем, и в какой-то момент Грибов вдруг почувствовал легкое недомогание и сонливость. «Что за напасть?» — успел подумать он, прежде чем потерял сознание.
Очнулся он в довольно просторном подвале, на железном топчане. Ужасно болела голова, страшно хотелось пить. На стенах подвала висели старинные картины и гравюры. На застекленных полках стояли древние фолианты и свитки старинных рукописей. Освещение, вентиляция и температура воздуха свидетельствовали о том, что он находится в святая святых какого-то музея, в его запаснике. Грибов резко дернулся, чтобы встать, и с ужасом понял, что пристегнут наручниками за руки и ноги к железным трубам топчана.
— Не дергайтесь, Иван Николаевич, будет только больнее.
Грибов повернул голову и увидел Милославского, сидевшего в кресле напротив.
— Что все это значит?! — стараясь говорить громко и строго, произнес Грибов. Однако его охрипший голос прозвучал испуганно.
— Ничего особенного. Просто я пришел попрощаться с вами и обратить ваше внимание вот на эту полочку. — Милославский показал на табурет, стоящий рядом с головой Грибова. — На нем лежит кусочек черного хлеба. Это точная копия той, блокадной, пайки. Сто двадцать пять граммов. Я хочу, чтобы до тех пор, пока ты не сдохнешь от голода, или не сойдешь с ума от безысходности, от невозможности даже почесаться и оправиться, или задохнешься от вони собственного дерьма, ты насмотрелся и надышался этой блокадной пайкой, этим моим детским счастьем. И сдохнешь ты в окружении того, что любил всю жизнь, — антиквариата. Те пять упырей, что были здесь до тебя, сделали это быстро, без моей помощи. И ты тоже постарайся не задерживаться. Топчан один, а вас, проклятых, много еще осталось. Кстати, яма отхожая тебя уже заждалась.
И не обращая внимания на истошные мольбы Грибова, Милославский, тяжело поднявшись по ступеням, покинул подвал.
Наоравшись всласть и убедившись, что подвал звуконепроницаем, Грибов замолчал и попытался успокоиться. Он уже перенес два инфаркта, и лишние волнения были для него опасны. Кое-как взяв себя в руки, он постарался спокойно, насколько это было возможно в его положении, проанализировать ситуацию.
Плюс состоял в том, что он был еще жив, а минус — в том, что скоро умрет. Как при таком раскладе быть дальше?
Болела голова, от аритмичных ударов сердца саднило грудную клетку, но самое страшное было не в этом. Самым страшным для Грибова был запах черного свежего ржаного хлеба, который раньше был ему совсем не знаком. Он не возбуждал его аппетит. Грибову еще не хотелось есть. Он разрывал на части его мозг. Грибов понимал, что блокадная пайка будет последним, что он увидит в этой жизни. Как ни странно, эта мысль принесла неожиданное облегчение. Грибов расслабился, закрыл глаза, втянул ноздрями приятную муть хлебного дурмана и снова потерял сознание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу