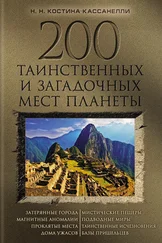– Я ее не убивала!
Потом она уже не может кричать. Она хрипит. Потом шепчет. Потом говорит уже одними распухшими, ни на что не похожими губами:
– Я… ее… не убивала…
Она и в самом деле ее не убивала. Это была ошибка. О, как много было в ее жизни ошибок! Ошибок, которые уже не исправить. Не тот состав. Не то действие. И даже не те люди! О, если бы ей дали еще немного времени, она бы все, все исправила! Она бы снова убила их! Но убила бы по-другому! Чище. Красивее. Изящнее. Умнее. И она ни за что не стала бы связываться с мадам де Монтеспан… и тем самым связываться с королем!..
– Что она сказала? – спрашивает у палача писец, которому велено все фиксировать.
– Бормочет что-то… – пожимает плечами пыточный подручный. – Осторожнее надо. Все ж маркиза. Как бы не померла…
Они задирают на мокрой с головы до ног и привязанной к доске женщине сорочку и с сомнением смотрят на ее живот, превратившийся в огромный кровоподтек. Палач цыкает зубом. Подручный вздыхает:
– Господин судья сказал, чтоб осторожнее…
– Отвяжите ее! – велит главный дознаватель. – Отнесите ее в камеру! И смотрите за ней… в оба! Чтобы была жива! Ничего не принимать! Никаких просьб! Никакой еды! Никаких передач! А то еще отравит ее кто или сама отравится…
Холодную и окоченевшую, как труп, маркизу де Бренвилье относят в камеру и укладывают на солому. Она не шевелится. Однако она жива – губы и кончики пальцев у нее подрагивают. Железная дверь с лязгом захлопывается.
– Я ее не убивала, я ее не убивала, я ее не…
Ее сестра умерла сама. Умерла в то время, когда она, Мари-Мадлен, как раз обдумывала: что лучше применить, чтобы убить последнюю? Убрать и наконец вздохнуть полной грудью. Сорок лет она не могла дышать… потому что все это время она лежала на столе, юбки ее были задраны, а на лице и груди своей огромной задницей у нее сидела сестра. А там, среди ее юбок, копошились и тыкались двое – сначала Антуан, потом Франсуа. Оба – мертвые. Она их убила, наконец-то она их убила! А эта убила себя сама… сама! Хотя больше всего на свете она хотела прикончить ее своими руками! И видеть, как сестра подыхает… медленно… мучительно… больно… как наливается ядом ее безобразное тело, как перестают исполнять свою работу органы, переполняясь дурной кровью… Сначала отказывает печень и разливается желчь… потом перестают выводить жидкость почки… Тело еще больше раздувается – огромное и без яда безобразное тело становится совсем уж гротескным. Оливково-серая кожа, налитые кровью глаза, и по всей поверхности тела – крохотные точки кровоизлияний. Крап смерти. Которая придет к ее сестре еще нескоро: потому что сердце вместе с ядом получает нечто, заставляющее его работать, качать и качать… пока точки-кровоизлияния не сольются в одно целое, в некое послание… и тогда все прочтут и все увидят!
– Я ее не убивала! – кричит она так, что содрогается ржавая дверь толщиной в руку.
Когда она приехала, чтобы передать своей сестре подарок – то, что ее действительно убило бы, – та уже умирала. Распухшая от еды, питья, слез, бесполезных лекарств и сочащейся изо всех пор сукровицы, страшная туша была еще жива и даже что-то пыталась сказать.
Мари-Мадлен разгневанным вихрем летела по замку, опрашивая всех и перетряхивая все: она желала знать, как это произошло! Служанки трепетали, забиваясь по углам: надо же, у той ведьмы, что сейчас умирала непонятно от чего, оказывается, такая сестрица! Красавица, но характер, видимо, еще покруче, чем у их хозяйки! Ох, не дай бог попасть под горячую руку и такой-то вот характер!
– Что она ела?! – кричала маркиза, расшвыривая посуду. – Что она пила?!
– Да как всегда, – пожимала каменными плечами кухарка. – Кушала хорошо… как всегда! Она всегда хорошо кушала…
В столовой, на огромном темном дубовом столе, покрытом бархатной скатертью, разумеется, уже не стояли грязные тарелки – все было прибрано, подтерто, вычищено, подметено… только на столике у окна еще оставался забытый бокал и опорожненная только наполовину бутылка вина…
Мари-Мадлен машинально взяла в руки эту бутылку, провела пальцем по гладкому стеклу, взглянула на этикетку и… Она все поняла. Поняла в единый миг, связав вместе все, все, все!
Она не убивала своего отца. И она не убивала свою сестру! Отец умер сам – видимо, как и утверждал лекарь, от удара. Потому что он не успел добраться до единственной из трех дюжин отравленной бутылки, помеченной на всякий случай вот тут, в углу, почти незаметной точкой. Вот она, эта точка! Она сама ее поставила! И она так и осталась стоять в погребе, эта меченая бутылка со смертью внутри! И оставалась там много лет… пока вкусы ее сестры не изменились… или не случилось под рукой ликера… или это просто была минутная прихоть. Ее уродливая, жестокая, мерзкая сестрица возжелала влить в свою каркающую глотку вина. И ей принесли ту самую бутылку. И она выпила.
Читать дальше
![Наталия Костина-Кассанелли Найти, чтобы потерять [litres] обложка книги](/books/397958/nataliya-kostina-cover.webp)