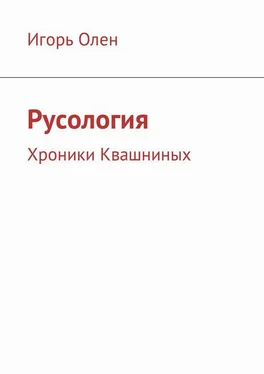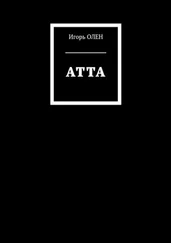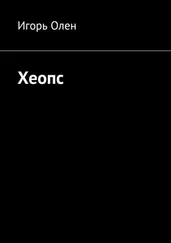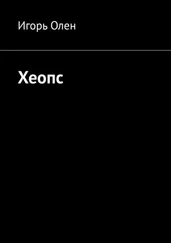– Папа, – спросил сын, – тульский язык такой: « кочевряжимся », « ты глядай, идрит », « ендовá », « нестрой »?.. Так дед Гриша нам… Что, такой язык? Мы бы жили тут, я б учил этот тульский? Что-то не хочется. Есть, кто знает все языки?
– Их тысячи, – пояснил я. – Но семейств меньше.
– Как это?
– Русский – брат итальянскому и другим… – Выкладывать, почему и каким «другим», я не стал, предпочтя мелодизм названий, так как угадывал, что здесь важен не смысл, но тон, ритм, просодия. Все искусства, сколь их ни есть, пытаются стать как музыка. Я продолжил: – Семьи есть кельтские, эвенкийские, австралийские, аравакские, эфиопские, папуасские и славянские… и семитские, и романские, зулу, банту, германские, майя-соке, на-дене, кéчуа, алгонкино-вакатские… есть индийские, тюркские… есть корейский с японским.
Он восторгался: – Ох, пап, на-дене?!
– Время готовиться, – вспомнил я.
Он рванул вперёд. Оставалось до тьмы собраться; но и «полить» сперва Заговееву. Тем не менее, скинув куртку, сев к столу, я вдруг сник. Из угла сын мой выволок («пап, охотиться!») карабин и предметы, всё из ненадобных: детский кубик, подшипники, пачку соли, резинки, битое зеркальце, старый серп и блок спичечных коробков.
– Пап.
– Да.
– Ночью видел, будто мы у реки, и я лежу на лежанке, ну, этой самой… – Он прошёл к печке, ближе к лежанке. – Я б тогда… Помнишь, зайцев мы ждали? И я ушёл потом. А была б кровать – я б там спал, потому что в кровати… Думаешь, глупый сон? – он с надеждой смеялся. – Разве тяжёлая? – он погладил лежанку. – Взять её к речке!
Но в голове моей некий плуг резал тьму: не порхали фантазии и не брезжили импульсы, не кипели анализы и не высились принципы; плуг пахал пустоту, где уже был не я, но некто, шедший в заумие : я утратил мозг и волокся вдаль, где стояла фигурка с мертвенным взглядом… Вскакивая, я вскрикнул – прям в Заговеева.
– Дак, Михайлович, ты польёшь, нет?
С муторным мозгом я зашагал с ним… Блеск снегов ослеплял… Тень сбоку: много ли выпили? Не Закваскин ли?.. Я пришёл в себя, лишь споткнувшись перед порогом (ведь крыльца не было).
Булькал чан на печной плите; было жарко… Жизнь моя пронеслась в клочках, от рождения до последних, предродовых мук смерти, целящей породить … Да, именно! Смерть рождает, как жизнь, – но в гроб… Вспомнив сверстников, коих нет, я завыл в душе. Я хотел исступления. С детства мнил быть героем, а вместо этого – чмо, что дохнет… Кто я? Квасня я!.. Приступ терзал меня. Но девятый вал истерии, самый ужасный, начал спокойствие. Тик часов, нагнетавших счёт, побудил смотреть характерные для безлесных мест бани. Около печки было корыто, в метр шириною и высотою чуть выше метра. Обруч из бронзы схватывал клёпки в лаковой росписи; а черпак с крючковатою ручкой хищно цеплял за край. Отражала свет ендовá с водой, красно-медная. С потолка, с двух гвоздей, висли два полотенца, вафельных, длинных. У окна стол: чай, чайничек, поллитровка, в блюдце соленья, пара стаканов – древних, гранёных, мутных и низеньких. Заговеев вздохнул.
– Пора!
Опершись на стул, расстегнул он рубашку и двинул ногу, что не сгибалась. Верх кальсон он скатал до пят и повлёк своё тело (тощие икры, крепкие бицепсы, дряблый вислый живот и плечи с длинною шеей и с головой над ней, суховатой и с чубчиком) сесть в корыто.
– Во как! Старинное! Сына мыл! И меня в ём ведь мыли. Дуб, он и есть дуб. Вечное!.. Спину три, да полей потом. Слава Господи!
Я натёр ему спину.
– Я так полдня сижу. Вроде думное место, не вылезал бы… Делали! – хлопнул он по бортам. – Морёный… Дак ведь и роспись! Как хохлома цветá, хоть целуй!.. В Чадаево мастер жил… – Он обмыливал шею. Слипшийся чубчик, не молодя уже, выдал возраст. – Было Чадаево. Нет его… Знай, Михайлович, хоть ты хвор, я вперёд помру, ну, к июню… – он чуть помедлил. – Домик-то сын возьмёт, будет дачничать. А ты взял бы корыто, друг? Хоть мыть малого? Не стерплю, как я буду в земле лежать, а Закваскин пожгёт его.
Пусть запущенный и бобылий, как у Закваскина, здешний быт попрактичнее, видел я. У того всюду хлам – здесь дельное, типа ветхий хомут (к починке, судя по шилу, воткнутому в супонь), круг шлангов, старый насос в тряпье, строй бутылок (десятерной, вдоль печки), разнокалиберные бечёвки, гвозди да валенки, сапоги, короб с птичьим пером (в подушки), также двухрядка, тара с рассадой на подоконниках, надувные колёса, стол с инструментами, два дерюжных мешка (наполненных), койка ленточной арматуры (нэповских, не поздней, времён), кочерга и шкаф с зеркалом, тумбочка, драный пуф с телевизором; синий ларь с юлой, куклой, кубиком, со зверятами из пластмасс и папье-маше. У меня был здесь в Квасовке сходный сбор старых детских игрушек.
Читать дальше