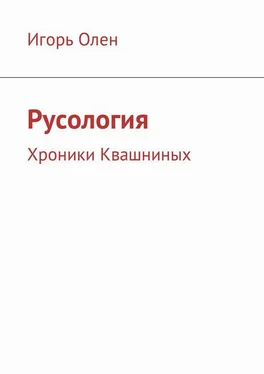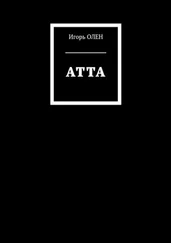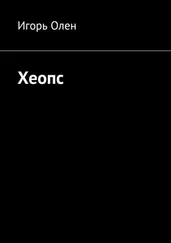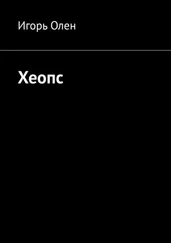– Ходь, ты мой каряй! – После, мотнув вожжой, в скрип полозьев промолвил: – Редикулит напал. Дак к теплу полегчается…
Со двора взяли вниз, в разлог, и оттуда к Тенявино, где он, верно, продаст крыльцо.
Я заметил: – Меня зачем?
Он мотнул вожжой. – Ты погодь… Нет и нет весны! – он добавил поёрзав. – Вымыться думал ведь, перед Вербным-то…
– Я полью.
– Слава Господи!
Вновь Тенявино, нежилой край… мёртвые избы; с плоских крыш капает, а крутые – те высохли, хотя ветер холодный… Всюду прогалины… Бесприютная кошка злилась на пса, прибежавшего от жилых сытых мест… В пойме речка блистала в ложе из снега в зарослях тальника…
– По обычаю, раньше к Вербному все уже были здесь, ну, дачники, – он рассказывал. – А счас нет. Старики в городах с детьми. Поуехали! С Горбачёва решили, что оживёт село, потому как он мелочь дал, что трудись на усадьбе. Хоть денег мало, да ведь хватало, коли подворье. А сто рублей тогда – сто лопат, во! Счас с наших пенсий – четверть лопаты… Что не дозволили? – повернулся он. – Торговать с дворов, чтобы с низу шло, как положено… – Нас тряхнуло на рытвине, он поморщился. – Ох, идрит… Счас другое. Счас воровать им; всё себе взяли. Нам как бы пенсии. А богатый, он ведь, Михайлович, – коль есть бедные; не с трудов пошёл. Им от бедных рубль, с наших маленьких пенсиев. Мы отдай рубль – и не богаты. Им же – в мошну их. В дело, врут, копят? Нам от дел фигу. Звать демократия? Молодая Россия звать?.. – Мы под лай собак плыли к центру Тенявино по льду наста; мерин взял к церкви. – Я и Закваскин в ящик сыграем – Квасовка сгинет. Сын не поселится, – вёл старик. – Мой сын в Флавске, где их завод. Чуть платят, но грош идёт; и стаж. А тут голь одна. Не прожить в селе; гибло. Там, где пахали, нынче облоги; овощ с Еврóпей. Лохна вся высохнет, – вдруг изрек он. – Лягу на кладбище, а потом Лохна будет овраг, сосед.
– Я спускался к ней, ты не прав.
– Михайлович! Дак снегá сочат! Сколь их в Квасовке, и в Мансарово, и в Щепотьево, где чудит Серафимка, этот наш столпник… Снег сочит! И вот кажется, что подъём в ей. В мае прикидывай, май сухой… Лохна сохнет… – И он мотнул вожжу. Мерин дёрганным шагом двинул к руинам, что на пригорке, чуть в стороне от изб. К нам приблизилась старая, с сумкой, женщина в пальтеце и в платке.
– Я с кладбища, от своих иду. К Марье тоже сходила. Мы с ней подруги сорок лет были… Марья-то – близ Закваскина-деда, ну, того Федьки… Чтой-то там чищено!
– Извиняй, я потом с тобой… догоню… – оборвал он, сказав: – Надёна… С ей мы со школы… Дрýжка первейшая моей Марье. В Флавске у дочери… Счас уйдёт пусть. Мне лишь тебя, сосед… – И он вылез из розвальней. – Сделай милость, держи-ка.
Мы опустили груз и, проваливаясь, с отдышкою, волоклись с крыльцом до церковного входа, подле которого я присел без сил. Заговеев же, вскинув голову и взглянув туда, где креста, как и купола, не было, а был остов под купол, перекрестился и попросил вновь:
– Ну-ка, Михайлович!
Мы приткнули крыльцо к развалинам, то есть к бывшему храму.
– Камень не склеить, – молвил я.
А он тёр свою чёлку скомканной шапкой.
– Грех я снял. Вёз тебя вчера с поля, тут и пришло: смерть рядом. Я, школу бросив, хвастался, что все учатся, а я взрослый. Этот Закваскин и впрямь помог, он тогда был в бухгалтерах. Я тебе, он мне, лошадь дам, чтоб свёз гречку во Флавск, в райком; восемнадцать мешков для их, а мешок ты во двор ко мне, чтоб не видели, для политики нужно; мамке килу твоей… После вновь опять: нá-ка лошадь, и чтоб не видели, потому как политика, ехай к церкви и оторви крыльцо, часть себе и часть мне. Я малой и дурной был; мне тогда что от ей и от клуба – всё одинаково. Даже хвастался, что крыльцо достал как в Москве в Кремле. Мать рогожей всё покрывала… – Он шапкой вытер пот и обмёл крыльцо. – По нему взойдёт теперь Пантелей. Потому как – Пантелеймона храм. Был святой такой… Я, сосед, значит, храм ломал? Грех, раз пьянь да ЧеКа не тронули, а я смог. От того мамкин век мал… А и супруга… Я ей кольцо дарил; не надел потом, как обмыли… – И он моргнул слезой. – С Рождества томлюсь, нету продыху… И в стране нестрой. Что я жил и работал, коли рассыпалось? Ходит гопник Серёня, грабит… Смута, Михайлович! Нет весны никак… – Он влез в розвальни. – Счас с тобою во Флавск мы, чтобы Надёну свезть. Ну, и выпить…
– Нет, – возразил я.
Сын прыгнул с розвальней мне в объятия.
– Дак зайдёшь полить? – донеслось мне вслед.
Мы вдвоём брели в Квасовку, и я думал о многом, в паузах отвечая шедшему мальчику. Например, что, бежав до корней припасть , я впал в беды. И что я занят собою больше, чем своим сыном, пусть он и главное, для чего я приехал, словно бы в одури, в эту Квасовку. И, что странное, я недужен, беден и в возрасте, между тем чаю многого: жить в Москве, а не где-нибудь, не болеть, иметь деньги. Плюс быть в лингвистике. Но ещё учить сына, и в МГУ причём; и жене помочь, и усадьбой сесть в Квасовке, и спасти диабетика-брата. Также, при всём при том, я хочу слыть порядочным, некорыстным, честным, скромным, достойным.
Читать дальше