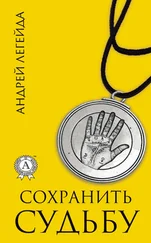— Двенадцать.
— Отлично! А возраст у них какой?
— От двадцати до тридцати пяти.
— Великолепно! Ты труппу нашу видел? Ну, и кто там твоих сосунков изображать будет? Старушки наши? Но вот представь, её приняли, а дальше что? — Мерцальский выразительно посмотрел на Глеба, — А то, драматург ты мой хренов, что попросят тебя переписать своё творение, учитывая специфику конкретного театра. А ты ведь до дрожи жаждешь увидеть свою пьеску на сцене, не так ли? И начнёшь ты её, любимую, кромсать, по живому резать. Плакать будешь, рыдать будешь, а изрежешь на куски ребёночка единственного, тщеславие своё теша. И мотаться в наши Палестины каждый месяц будешь, и жить здесь будешь неделями среди нас, пьяниц запойных, и доить мы тебя будем, бычка московского, чище самой знатной доярки-ударницы. А года через три, когда и взять с тебя уже нечего будет, пошлём мы тебя по всем алфавитам кириллицы и латиницы, да ещё и иероглифы добавим. Вот тогда-то, Глебушка, ты узнаешь, что такое унижение, а это… Так, недоразумение. Давай выпьем за то, чтобы… Батюшки-матушки, закончилась огненная вода у индейцев. Эй, Быстроногая Лань, волоки ещё бутылку!
Они сидели уже часа четыре и Глеб сбился со счёта выпитых бутылок — Леопольд с официанткой пили на равных, да и Фима, время от времени подсаживавшийся к столу, не отставал.
За окном стало сереть. Глеб тосковал, глядя на Лёвку и пьяненько хихикающую Дездемону, которую Мерцальский откровенно щупал и грозил удавить, как только она окажется в постели. До него никому не было дела и, притупившаяся было обида, расцвела с новой силой.
— Значит, говоришь, бычок московский? — выплеснул Глеб накопившуюся горечь, — Ну и гады же вы все.
Мерцальский бросил на него короткий взгляд, сделал озабоченное лицо и забормотал:
— Всё, всё, спать — вечером спектакль. Человек, счёт! — прокричал он и, шатаясь, пошёл к двери. Звякнул колокольчик и Леопольд Мерцальский исчез из Глебовой жизни, так же внезапно, как и появился. К столу подошёл Фима и положил перед ним всё то же меню.
— Я больше ничего не хочу, сыт по горло, — мрачно буркнул Глеб, отодвигая засаленную папку.
Фима молча открыл её и снова пододвинул к Глебу:
— Расплатитесь, пожалуйста.
Внутри лежала четвертушка тетрадного листа, испещрённая какими-то цифрами и гордым ИТОГО, приведшим Глеба в изумление. Он не стал спорить, отсчитал деньги и молча пошёл к двери. Колокольчик снова звякнул, дверь захлопнулась, и Глеб услышал, как изнутри лязгнул засов.
— По ком звонишь, колокольчик? — мрачно подумал Глеб и осмотрелся.
Потеплело градусов на десять, из низких туч сыпал лёгкий снежок, и узкий проулок между двумя заборами показался ему белым тоннелем с серым потолком, ведущим в никуда. Поезд на Москву отходил почти в полночь, но никто не предложил ему места, где можно было бы скоротать оставшиеся восемь или девять часов. Да нет, что там «не предложил»? Никому даже в голову не пришло подумать об этом! Обида с новой силой захлестнула Глеба. Он плюнул на порог этой прокисшей «таверны» и пошёл вправо — где-то в той стороне должен был находиться вокзал.
Сквозь усилившийся снег уже проглядывался конец проулка, когда рядом с Глебом раздвинулись доски забора и из дыры вывалились две фигуры.
— Чемодан открой, — простужено просипел мужской голос.
— Что вам нужно? — почему-то шепотом спросил Глеб.
Мужик не ответил, но быстрым движением приложил к его щеке что-то леденяще холодное и Глеб нутром понял, что это нож.
— Ты не спорь, не спорь, — умоляюще зашептал второй, — нервный он, нервный, понимаешь? Не зли его, не то и впрямь пырнёт.
Глеб открыл кейс. Сверху лежала папка с пьесой, которую мужик приподнял длинным узким лезвием. Бритвенный станок, мыльница, небольшое полотенце и пара чистых носков заполняли всё свободное пространство.
— Это что, всё? Ты что, издеваешься, да? — искренне возмутился сиплый и, судорожно махнув ножом, выкинул папку из кейса. Глеб согнулся, пытаясь подхватить падающую пьесу, и мужик резко и точно ударил его ребром ладони по шее. На Глеба Серафимовича Маркова обрушилась сверкающая темнота.
Он пришёл в себя через несколько минут, и пополз по тоннелю, ведущему в никуда, собирая и прижимая к груди разлетевшиеся листки, как в далёком детстве собирал и прижимал к себе опавшие кленовые листья. Проулок кончился, упёршись в насыпь, и Глеб пополз на неё, прокладывая в снегу новый тоннель, и полз до тех пор, пока не выбрался на тихо гудящее, вибрирующее полотно. Здесь он поднялся и побрёл прочь от тусклых станционных огней в чернильный мрак ночи. Ему вдруг вспомнился давно забытый стих, и он стал шептать его, как молитву:
Читать дальше