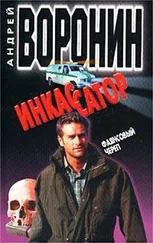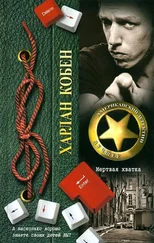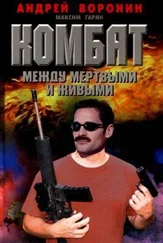Представляете, Анна, до какой степени я ничего не понял?
Правда, я быстро успокоился. Привык, знаете ли, за столько-то лет.. Стоит где-то появиться Забродову, и все моментально перестают что бы то ни было понимать. Скажи, – почти умоляюще обратился он к Иллариону, – ты когда-нибудь угомонишься?
– А как же, – с готовностью откликнулся тот. – Обязательно. Все будет, как у людей: оркестр, почетный караул, венки, траурные речи, а под занавес, как водится, поминки, плавно переходящие в дискотеку. Этого никто не минует, Андрюха, потому что жить вечно – это неприлично и непорядочно по отношению к окружающим. Им же, наверное, обидно будет! Безобразие, скажут, сколько можно?! Пора бы и честь знать…
– Да ну тебя, – устало отмахнулся от него полковник Мещеряков.
Рация под приборной доской захрипела, закашляла и сказала:
– Первый, я коробочка. Ответьте коробочке, первый!
Мещеряков взял микрофон.
– Первый слушает.
– Куда нам теперь? – спросила рация.
Мещеряков покосился на Иллариона. Тот протянул руку и отобрал у него микрофон.
– Здравствуй, Матвей, – сказал он. – Всем спасибо, пока отдыхайте. Вечерком встретимся здесь же. Ну, примерно там, где вы сейчас стояли. Четырех-пяти человек будет достаточно.
Анна обернулась и увидела позади, метрах в пятидесяти, давешний грузовик. Пятнистый тент хлопал на ветру, выпуклое лобовое стекло весело блестело на солнце, а над кабиной раскачивался ранее не замеченный Анной длинный ус антенны.
– А начальство как на это смотрит? – осторожно осведомилась рация.
Забродов повернулся к Мещерякову.
– Как смотрит на это начальство? – кротко спросил он.
– Один я под трибунал не пойду, – пообещал полковник.
– Начальство смотрит вдаль, – сообщил Забродов в микрофон, – изучает перспективы и строит стратегические планы. Начальству не до нас. Оно только предупреждает, что одно, без нас, под трибунал не пойдет.
– А оно и с нами не пойдет, – прохрипела рация. – Где это видано, чтобы начальство под трибунал ходило? Трибунал – он для простых смертных, а начальство, в крайнем случае, просто переведут на другую должность. С повышением.
– Много вы понимаете, – проворчал Мещеряков. – Вольтерьянцы… Анархисты, уголовники…
Он замолчал, явно подбирая слова, которыми можно было бы как следует обругать вольтерьянцев и анархистов в присутствии женщины. Забродов с заинтересованным видом подождал продолжения, не дождался и сказал в микрофон:
– В общем, до вечера, Матвей. Ребятам от меня привет.
После этого он вернул микрофон в гнездо, поудобнее расположился на сиденье и принялся с чрезвычайно довольным видом наматывать на указательный палец свою остроконечную эспаньолку.
Все прошло как по маслу.
Утро выдалось теплое, солнечное, совсем летнее. Легкий ветерок шелестел травой, которую до сих пор никто не удосужился подстричь, и раскачивал за высоким каменным забором верхушки росших вдоль ручья деревьев. Флюгер на крыше гаража лениво поворачивался из стороны в сторону, по небу плыли редкие облака, похожие на клочки ваты в тазу с подсиненной водой, откуда-то тянуло густым запахом цветущей сирени. Вокруг была настоящая благодать, но в данный момент Виктор Майков предпочел бы ненастье, слякоть и грязь – тогда, по крайней мере, можно было бы списать хотя бы часть своей безнадежной тоски на дурную погоду. Яркие, не успевшие запылиться и поблекнуть краски поздней весны, ласковые прикосновения теплого ветра, солнечный свет и щебетание птиц – буквально все казалось ему сейчас исполненным какого-то зловещего, издевательского смысла, и он вдруг понял, как это несправедливо: знать, что ты умрешь, а солнце будет светить другим все так же ярко и беззаботно, как будто тебя никогда на свете-то и не было.
– Как это случилось? – негромко спросил он, тупо разглядывая две большие неряшливые ямы, обезобразившие зеленый английский газон.
Рыба подошел к краю ямы и рассеянно поковырялся в рыхлой земле носком ботинка. Земля была еще влажная, и от нее исходил густой запах свежевырытой могилы.
– Не знаю, Андреич, – сказал Рыба. – Меня, блин, сразу выключили. В натуре, как телевизор. Вышел перед сном посмотреть, что да как, свернул за угол, и больше ни хрена не помню.
Говорил он с трудом и старался держаться к Майкову профилем – правым, поскольку левый сейчас сильно напоминал резиновую грелку, наполненную водой сверх всякого предела. «Грелка» эта имела густой красно-фиолетовый, почти черный цвет, и из этой раздутой кошмарной маски жутковато выглядывал ярко-алый заплывший глаз.
Читать дальше