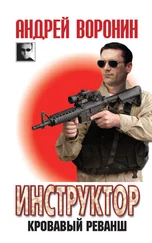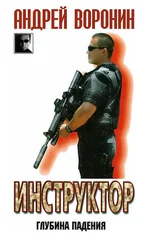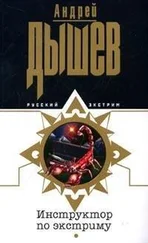В душе творилась странная неразбериха. Кажется, впервые за всю свою жизнь Клим Зиновьевич вообще ничего не боялся, хотя причин для страха было хоть отбавляй. В происходящем он разобрался далеко не до конца — вернее, совсем не разобрался, уж слишком много внимания в этот пасмурный денек обрушилось на его скромную персону. Поначалу он решил, что забравшийся к нему в дом человек с револьвером — киллер, присланный из Москвы кем-нибудь вроде того же Мухина. Появление на сцене священника спутало все карты: как бы Голубев ни относился к церкви и ее служителям, поп в роли наемного убийцы — это уж чересчур даже по его понятиям. Кроме того, человек, принятый им за киллера, даже не пытался в него стрелять. Он отправился за машиной, а это следовало понимать так, что он намерен забрать Клима Зиновьевича с собой и отвезти куда-то, где его станут допрашивать, а потом отдадут под суд и отправят в тюрьму.
К немалому своему удивлению, Клим Зиновьевич обнаружил, что больше не боится тюрьмы. Да и с какой стати ее бояться? Можно подумать, до сих пор он был свободен и жил в условиях, намного лучших, чем те, что может предложить российская система исполнения наказаний! Зато во время следствия и на суде вокруг будет множество неглупых людей, готовых внимательно и вдумчиво выслушать все, что захочет сказать Клим Зиновьевич. Вот это, последнее, представлялось подарком судьбы, получить который иным путем Голубев не мог, как ни старался.
Отец Михаил оказался первым таким человеком. Несмотря на предубеждение, которое Клим Зиновьевич испытывал к служителям культа (всех их, без единого исключения, он считал ловкими мошенниками, наподобие чиновников, навострившимися неплохо жить, не работая), уже на второй минуте разговора он почувствовал острое желание излить батюшке всю душу. Его не смущала даже камера, любопытный стеклянный глаз которой фиксировал каждый его жест, каждое движение и каждое слово. Напротив, Клима Зиновьевича ее присутствие вполне устраивало: это был еще один слушатель, и притом такой, который ничего не пропустит, не забудет, ничего не перепутает и ни о чем не умолчит при пересказе.
Разумеется, ни на какое сочувствие со стороны отца Михаила Клим Голубев не рассчитывал — напротив, он ожидал осуждения, порицания и многословных нравоучений, главная и единственная суть которых заключалась бы всего в двух коротеньких словах: «Не убий». Это была заповедь, которую испокон веков нарушали все кому не лень — так же, впрочем, как и все остальные заповеди, количество которых Клим Зиновьевич, грешным делом, позабыл. Однако священник просто слушал — слушал не перебивая, кивал с понимающим видом, вздыхал, морщил лоб и в задумчивости ерошил пятерней бороду, так что она очень скоро стала напоминать долго бывшую в употреблении зубную щетку. А дослушав, сказал только: «Что ж ты, раб Божий, с жизнью своей сотворил-то?» И Климу Зиновьевичу впервые подумалось, что он и впрямь сотворил со своей жизнью что-то не то.
Он как раз собирался сказать об этом отцу Михаилу, но тут со двора донесся шум, потом в сенях затопали, заговорили в три голоса, и батюшка, разом посуровев, встал из-за стола и шагнул к дверям, забыв о включенной камере — той самой, что болталась теперь у Клима Зиновьевича на груди на переброшенном через шею матерчатом ремешке с вытканной надписью «Panasonic».
Пятясь, Голубев беззвучно проскользнул в бывшую спальню, которой в последние годы единовластно распоряжалась жена. Старая двуспальная кровать с железными спинками была застелена без единой морщинки, взбитые руками жены подушки громоздились на ней аккуратной пирамидой, покрытой сверху полупрозрачной тюлевой накидкой. На столике в углу стояла старая швейная машинка, на стене рядом с кроватью висел потертый тканый коврик с лебедями. Здесь было чисто, поскольку после смерти жены Клим Зиновьевич сюда не заглядывал, только на горизонтальных поверхностях уже успела скопиться пыль.
Ему почему-то вспомнилось, как по воскресеньям с утра пораньше дочь вбегала сюда, топоча маленькими ножками, карабкалась на кровать и устраивалась между ними, хихикая и толкаясь холодными пяточками. Волосенки у нее были теплые, нежные, как пух, и щекотали щеки и ноздри, прогоняя остатки сладкого утреннего сна. Тогда это казалось досадной помехой — ну вот, опять в выходной не дали выспаться, — а сейчас при воспоминании о том времени в душе вдруг возникло незнакомое, щемящее чувство потери. Куда все ушло, почему жизнь сложилась так, а не иначе?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу