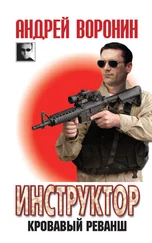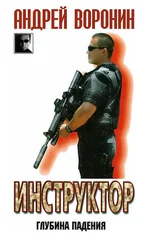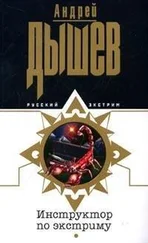Пистолет оглушительно хлопнул еще дважды. Костыль неловко откатился в сторону и наконец увидел, кто стрелял. Муха стоял у двери, что вела в сени, и медленно опускал дымящийся «глок». Он был бледен, а зрачки расширились так, что не стало видно радужки.
Костыль перевел взгляд на священника. Ряса его на груди была в трех местах пробита пулями, кровь буквально на глазах пропитывала черное сукно, но он еще стоял. Потом он оторвал ладонь от дверного косяка, за который держался, чтобы не упасть, и шагнул вперед, не сводя глаз с Мухи. Мухин попятился, снова поднимая пистолет, но тут ноги отца Михаила подкосились, и он рухнул, как срубленное дерево.
— С-сука, — дрожащим голосом пробормотал Костыль, поднимаясь на четвереньки.
— Вот это я называю чистой работой, — болезненным тоном поддакнул Буфет. Он сидел на полу, привалившись спиной к перевернутому холодильнику, и ощупывал себя руками, проверяя, все ли на месте. — Пришли по-тихому, сделали по-быстрому, подчистили за собой и слиняли. Ты чего, братан? — обратился он к Мухе. — На хрена было стрелять? Куда мы теперь этого борова в рясе денем?
— Еще минута, и он бы вас повязал, — ответил уже восстановивший самообладание Муха. — И меня с вами заодно.
— Ну, и чего? — не сдавался Буфет. — Что бы нам пришили — хулиганку? Сунули бы ментам сто баксов в зубы, они бы нам задницы расцеловали!
— Тогда оживи его, — сказал Муха. — Я покурю на крыльце, а вы можете продолжать увеселение.
— Да, — с трудом принимая более или менее вертикальное положение, поддержал его Костыль, — что сделано, то сделано. И не может быть переделано. Ну, где тут наш больной?
Словно в ответ ему откуда-то из глубины дома донесся характерный треск рвущейся бумаги и послышался негромкий, но очень характерный стук, как будто там кто-то открыл окно.
— Ах ты мразь! — изумленно воскликнул Костыль и, перепрыгнув через труп отца Михаила, устремился в комнату.
За ним, нетвердо ступая и придерживая ладонью ушибленный бок, хромал Буфет. Мухин не спеша последовал за своими подручными, на мгновение задержавшись, чтобы бросить взгляд на распростертое посреди кухни тело. Ноги в испачканных подсохшей грязью яловых сапожищах сорок пятого размера были широко раскинуты, скрюченные пальцы впились в щелястый пол, словно поп еще хотел куда-то ползти. Голова была повернута набок, рассыпавшиеся волосы перепутались с бородой, скрыв лицо, и сквозь их спутанную завесу жутковато поблескивал открытый глаз.
— Козел, — сквозь зубы процедил Муха, не желая даже мысленно признаться в том, что громила в рясе вселяет в него суеверный ужас даже после смерти.
Он перешагнул натекшую из-под тела лужу, что цветом напоминала продукцию «Бельведера», и замер, услышав раздавшийся из глубины дома вопль Костыля:
— Стой, сука!
Сразу за воплем последовал выстрел — очевидно, сука, к которой взывал Костыль, стоять не пожелала. За первым выстрелом последовал второй, за вторым — третий. «Да, ничего не скажешь, чистая работа», — подумал Виктор Мухин и с неохотой вошел в жарко натопленную, грязную, пропахшую водочным перегаром и несвежим мужским бельем комнату.
Когда прогремел третий выстрел и отец Михаил, сделав последний в своей жизни шаг, начал, как подрубленный, падать лицом вперед, Клим Зиновьевич Голубев опустил видеокамеру. Батюшка беседовал с ним, поставив включенную камеру на край стола, и, когда на кухне началась заварушка, Клим Зиновьевич взял диковинную игрушку в руки и стал снимать священника со спины — зачем, он и сам не знал. Как выключить эту штуковину, он не знал тоже, а потому, закончив съемку, просто повесил работающую камеру на шею и, беззвучно переступая по полу ногами в старых шерстяных носках, попятился в комнату, которая в давно забытые, относительно счастливые времена служила супружеской спальней.
Теперь, когда снимать стало уже нечего, у Голубева появились кое-какие мысли по поводу того, как использовать запись. Он узнал человека, который стрелял в отца Михаила. Это был один из хозяев завода, Виктор Мухин, тот самый московский толстосум, явный бандит и подонок, что своим хамским поведением и барскими замашками во время одного из визитов в Песков натолкнул его на мысль воспользоваться своими познаниями для сведения счетов с новой российской буржуазией. Судьба самого Клима Зиновьевича, похоже, была решена окончательно и бесповоротно. Деваться было некуда, разве что пойти в бомжи. Он решил, что разберется с этим позже. Сначала нужно было выбраться отсюда живым и как-то передать запись убийства журналистам. Как убрать из памяти цифровой камеры все, что касалось его лично, Голубев не знал, но полагал, что сумеет в этом разобраться, если выиграет хоть немного времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу