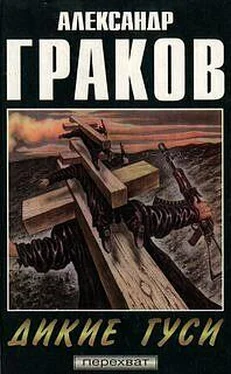Янка ревела — страсть! Даже рвалась за ним на зону, вроде жены декабриста! Клялась, конечно, в верности, ну, не до самого гроба, но до скончания срока — это точно! А письма в лагерь ему слала такие, что даже видавшие виды цензоры из зоны по ночам ворочались с боку на бок и тяжко вздыхали! Потом поутихла, а когда я после трехмесячных скитаний со штангой по России вернулся домой, не отвечала даже на телефонные звонки: услышав мой голос, бросала трубку. Интересное кино. Тогда я беру тачку напрокат и подкатываю к ее квартире.
Звоню в дверь — выходит: с растрепанной прической и в халате «на голяк». Как увидела, кого ей Бог послал в это утро, тут же — шасть назад в дверь — хотела захлопнуть! Ну, я ее отодвинул вместе с дверью, вхожу в квартиру, а она орет сзади: уходи, мол, Лешка, а то хуже будет! А что могло быть хуже той картины, которую я увидел: валяется в спальне на кровати один из тех грузинов, которые ее тогда клофелинчиком облагодетельствовали, и кушает виноград с блюдечка. Прямо в кровати, пропадло!
Что ж ты, говорю, стервозина, делаешь? Человек, который твою честь защитил и от явной смерти уберег, чалится на нарах, а ты пересылаешь ему мемуары вашей с этим хмырем постельной жизни, выдавая их за свою любовь? А она мне в ответ: с кем хочу, с тем и живу, а ты пошел вон с моей территории! Слышу — сзади клацнуло. Оборачиваюсь, а это мурло грузинской национальности ножичек выбросной мне под ребро нацеливает. Вот тут уж я отвязался: он у меня по спальне летал, как футбольный мячик — даром, что ли, кандидата в мастера мне в свое время присвоили? Под конец я его вышвырнул в окно спальни вместе с рамой, по-моему, и повернулся к Янке, чтобы повторить такую же процедуру с ней. Она, видимо, это враз просекла — вдруг заорала, расцарапала себе щеки, грудь и бросилась из квартиры, вопя: «Насилуют! Насилуют!» Ну, вы знаете: ноль два набирается очень быстро… Через час я сидел в СИЗО, а через три месяца встретился с Толиком на зоне строгого режима!
— А грузин — как же? — поинтересовалась Лина. — Не разбился?
— А чего ему разбиваться? — пожал могучими плечами Батон. — Из окна первого этажа да на клумбу! Вот смыться он смылся, так что за якобы изнасилование пришлось отвечать мне одному!
После этого все посмотрели на Айса, он сидел сразу же за Батоном.
— Ребята, можно, я буду последним: мой рассказ самый длинный?
— Валяй! — от имени всех великодушно разрешил Шнифт, — Болт, колись!
Тот не заставил себя долго упрашивать.
— Работал я, мужички, в обыкновенном колхозе, недалеко отсюда — это АО нынешнее, которому мы хату мою задвинули, — объяснил он. — Ну, что такое колхоз, вы себе, наверное, представляете: скот, навоз, пшеница, семечки и кукуруза. Придешь с работы — дома то же: скот, навоз и огород.
Гулянки, конечно, с размахом, но редко: свадьбы там, проводы в армию, похороны-крестины… В общем — жизнь трудовая, перспективы — никакой. Ну, к пенсии, может, выбьешься в бригадиры полеводческой бригады или в члены комиссии рабочего контроля. Я это к чему веду: мира остального из колхоза не видно — сплошное черно-белое кино. В то лето пахал я со своим «Колосом» на уборке пшеницы как папа Карло — две недели без просыпу не вылазил из-за штурвала. И урожай был отменный — по тридцать пять центнеров с гектара вкруговую вышло. Правление на радостях мне в День урожая к премии путевку в санаторий подбросило — в Небуг, на побережье. Мать мне, ясное дело, самую лучшую одежду собрала, жратвы нашей, крестьянской, напихала два чемодана: как же, почти на месяц сынок убывает… Денег, правда, немного дала: деньги на селе ценятся дороже жратвы, которая под ногами гуляет.
Приехал я в первый раз на море — мать моя! — столько соленой ласковой воды, высокого неба и жаркого солнца на одного, на целый месяц — это же роскошь неописуемая! Может быть, и дома всего этого в избытке — кроме соли в воде, — но не замечаешь, потому как права крестьянская поговорка: «За делами некогда в гору глянуть». А здесь от ничегонеделания все сразу наружу выпячивается… Так вот, сразу по приезде — мне номер одноместный: видимо, от путевочки моей какой-то шишкарь из нашего колхоза отказался по не зависящим от него обстоятельствам. Телевизор, душ, санузел и телефон в одном месте, сразу после нашей свиноводческой фермы, — поневоле обалдеешь! Ну, я пораспихивал свои чемоданы: один — в шкаф, другой — под кровать, едой забил холодильник, и бегом на пляж! Прихожу оттуда под вечер уже, весь красный, как задница у шимпанзе: сгорел с непривычки, — слышу: в соседнем трехместном номере шум, грохот, тары-бары разные. Выхожу в коридор, а это соседи вселяются, какой-то крупный, видимо, начальник приехал: ему огромный телевизор втаскивают, пару видиков к нему, и сейф несгораемый — здоровенный такой, как шкаф! Вот этот-то сейф они с водителем и не могут в дверь протолкнуть. А рядом стоят две особи женского пола: одна молоденькая совсем — лет девятнадцати, а второй уже под пятьдесят, в очках. Увидел меня этот шеф-директор и обрадовался, как вновь объявившемуся родственнику. Попросил помочь затащить железяку эту. Ему, мол, нельзя, сердце барахлит. Ну, конечно, на вид больше пятидесяти, пузон мотню прикрывает — где ж ему с такой работой справиться! А мы, колхозники, — народ привычный. Сбегал я во двор, нашел пару чурочек круглых, и через пятнадцать минут эта громадина мирно покоилась в углу. Тут мне все — «спасибо», «спасибо»: познакомились, как соседи с соседями. И вправду, он оказался директором крупного предприятия по разведению пушных зверей. А с ним приехали его секретарша и главбух. Ну, естественно, сразу понял, кто есть кто: в секретарши пятидесятилетних не берут почему-то современные начальнички! Интересуюсь — на кой ему хрен телевизор, когда в номере свой есть. А он мне: один пусть в прихожей стоит, то есть в холле, а второй у меня в спальне будет — я так привык!
Читать дальше