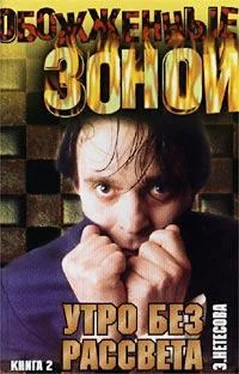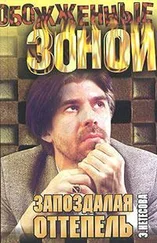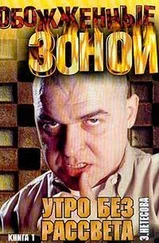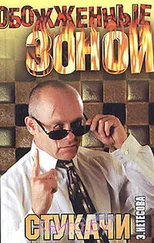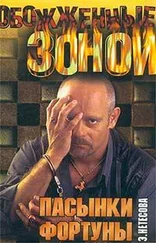— Степан, ты нарушаешь свой устав, — сказал начальник лагеря.
— Как это?
— Если Скальп убит без твоего разрешения, ты сам сделатьдолжен был что, если бы довелось встретиться с убийцей ? По вашим-воровским законам. Наказать?
— Да. Но своими руками. Без мусоров.
— Но за это ты получил бы срок. И немалый! А вот если мы дело раскроем — убийца будет наказан. И ты не в ответе. Кстати, ты видно неспроста не давал слова на расправу со Скальпом. Видимо, основания были. И о них знали зэки. А вот убийца пренебрег твоим запретом. И, поставив себя выше твоего слова, свое сделал. Смолчишь ты, это убийце на руку. Пусть других трясут. А он в стороне походит. В невинных. Пока до него докопаются. Да и другим, кто на ноле, дурной пример. Один твой запрет нарушил — другим можно, — говорил начальник лагеря.
Яровой в разговор не вмешивался. Хорошо понимая, что напоминать «президенту» о гражданских обязанностях свидетеля в данном случае бесполезно. Нужно просто помочь Степану принять правильное решение…
— Другие ослушаться не посмеют. Знают меня, — подыскал, наконец, ответ «президент».
— А этот разве не знал? — усмехнулся начальник лагеря.
— Может, и не знал. Чужак этого «суку» по нечаянности грохнул… Одно дело, если я сам, как «президент» зоны, про то дознаюсь и спрошу кой чего… А другое, дело в свидетелях оказаться. Это — тоже стукачество. На своего или чужого — неважно…. А потому не буду для ксивы колоться. Я думал просто для разговора позвали. Мол, что за человек этот Скальп. Стоит ли из-за него огород городить. Так про то я скажу: такому «суке» и смерть собачья. Поганец был, не человек. Сказал бы и больше, да не могу. Как бы мой язык хорошему человеку не навредил. Но хоть я и зол на Скальпа…
— Дело твое. Я не прошу тебя. И, конечно, не настаиваю ни на чем, но учти; убивший однажды, может и вторично… — «нажал» Виктор Федорович.
— Ну и что, — безразлично ответил «президент».
— Сегодня он прикроется тем, что ему велели. А завтра повелителю— нож в бок. Потом просто потому, что проигрался в карты…
— Сам и ответит.
— А скольких погубит?
— Вышку схватит.
— Так может его поганая жизнь не стоила и плевка любого из жертв?!
— Что делать…
— Иди! Иди! Пусть убивает! Тех, кого ты даже здесь уберег! Ты не дал им здесь сдохнуть! Последний свой кусок им отдавал, чтоб их какой-то гад укокошил. А ты из своей воровской солидарности жалей их. Пусть они набивают руку на «суках», чтоб ко времени твоего освобождения и с тобой уметь расправиться. Виновен ты или нет — неважно. На всякий случай опередить постараются…
— Я за себя сумею постоять! — перебил Виктора Федоровича «президент».
— Ты сможешь, а другие — нет!
— Я всем не заступник.
— Может, потому, что ты и сам учил убивать? — не сдержался Виктор Федорович.
— Воровать учил! Меня учили и я учил! Так положено. Таков закон. Кто из воров посмеет отказать молодому в обучении — тот не фартовый! А убивать не учил. Ты сам это знаешь! Не убивал я! Никого!
— Зато покрываешь убийц ! А кто ты после этого? Знаешь?
— Знаю! Честный вор, вот кто! Сам рук в крови не запачкал, но и «душегубов» не закладывал. А вот убитый сам не одного убил.
Яровой понял: разговор зашел в тупик. Пора вмешаться.
— Послушай те, Степан, а почему я должен верить тому, что вы не поручали кому-нибудь убить Скальпа?
— Как почему? — искренне удивился Степан. — Я же «президент». И хотя сижу здесь, но руки у меня длинные. Везде ослушника достану. Про то всяк из наших знает. Нет, из тех, кто при мне освободился, никто не убивал.
— А почему вы запретили Скальпа убивать?
— Чтобы нам здесь, кто остался в зоне, начальство больше доверяло. Чтоб прежние порядки не возвернулись. Чтобы к нам тут по-человечески относились, как вот гражданин Виктор Федорович. Чтобы тень на лагерь не ложилась. И чтоб не присылали заместо Виктора Федоровича таких, как Бондарев. Чтобы «сучню» к нам не засылали и в шизо не кидали кого ни попадя, — и правых и виноватых. Ведь стукачу стемнить, что два пальца обоссать. Чтоб зверствов в зоне промеж ворами и работягами опять не начиналось. Я сам «душегубов» терпеть не могу. Не умеешь украсть — не берись за финач. Это мокрушники на нас, честных воров, на воле лягавых натравили. Мы без крови куда как спокойнее работали. Семьи имели. От вдов и сирот глаза не прятали. Уважали нас. За удачу и понимание: у кого можно своровать, а с кого нельзя последнюю рубашку снимать. Мы ж и налог брали со всяких деляг, с цеховиков, с ювелиров, какие сами у государства крали. Это я про свою «малину» говорю. Я лично у государства ни копейки не взял. А вот спекулянтов золотом и камешками, крупных антикваров этих я тряс. За милу душу. Еще когда беспризорником был, возненавидел сытых. Я и засыпался-то на таком вот. В деле об этом приговор есть: он интендантом был и аж целый склад харчей притырил. На бомбежку пропажу списал. А сам в блокаду харчи эти на золотишко да бриллианты выменивал… Так после войны жил припеваючи. Ну, когда попух и все мои дела нашли, мне — пятнадцать лет, а ему — «вышка» по законам военного времени. Так вот я и есть честный вор на шконе. Что украл — государству же и вернул. Через свое удовольствие. Не прятал по тайникам. Ел, пил, гулял вволю. А тут всякую шпану в закон вводить стали, в наш воровской. А я их из этого шкона на работу вывожу. За то, что променяли отмычку на «перо». Работяги про то знают. И уважают. Тоже «президентом» признали. Так стану ли я всю зону под монастырь подводить? Мы здесь зачеты за работу получаем. На волю раньше выйдем. А в Магаданском лагере от звонка до звонка тянут. Кроме «сук»… Нам такого не надо. Потому запрет на убийст во Скальпа дал. И вся зона потом с ослушника спросила бы. Нет, из тех, кто освободился за остатние годы, сколько я здесь в «президентах», — никто из моих зэков не мог такое уторить. — Степан умолк угрюмо, будто и не он только что в запальчивости так долго и так «складно» говорил.
Читать дальше