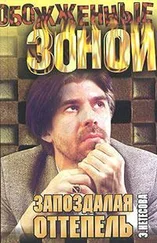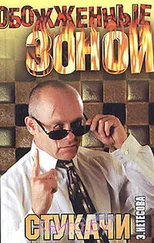— А что если я спрошу у Михалыча о Федьке? Ему он, конечно, сказал, куда смотался, — подумала Тонька и вышла на кухню. Но там соседа уже не было.
Петрович, увидев Тоньку, хитровато прищурился и спросил:
— Чего мечешься, как шальная курица? Аль потеряла кого?
— Дедунь, а куда Федька поехал? — спросила дрогнувшим голосом.
— А хрен его знает.
— Он с Михалычем говорил, разве не слышал?
— Оне про тот французский камин тарахтели. Ему опора нужна на фундамент. Это ж целая махина, а не камин. Все просчитать надобно, каб не завалился и не придавил никого собою. Этих «Людовиков» очень редко просят. Я так и не видывал их. Андрюха тож подзабыл все. Последний ложил, когда Федька еще голожопым бегал. Ну а нынче стребовали француза. Може побег присоветоваться с кем-нибудь, хотя окромя их никто в городе такого камина не поставит.
— Так куда Федька поехал? — перебила нетерпеливо баба.
— Мне не докладался, — буркнул Петрович и, оглядев Тоньку, спросил:
— А ты с чего по ем бесишься?
— Дедунь, если скажу, не прогонишь из дома?
— Ни в жисть!
— А ругаться будешь? — вобрала голову в плечи.
— Чево торгуешься? Аль набедокурила с им? — сдвинул брови, сердито косился на внучку.
— Виновата я, дедунька! — подошла к Петровичу, обняла, прижалась к человеку, как когда-то в детстве:
— Прости меня окаянную! Не прогоняй! Ну, куда: я с Колюшкой денусь? Сгинем с ним вместе!
— Дак што стряслось?
— Вблизях с Федькой была на чердаке, в сене. Думала, что враз бабой объявит, а он и не подумал, уехал, не сказав ни слова, — завздыхала баба.
— Будет сопли развешивать. Подберись, да умойся. Нечего выть, коль не башкой, а хварьей думать стала. Не можно так! Слышь, дуреха! Баба с этим, што промеж ног горит, должна по уму распоряжаться, а не совать первому желавшему! А что если понесла от ево?
— Аборт сделаю. На что мне второй? Вон как Кольку поднимать тяжко!
— Замолкни! Я тебе дам аборт, дура безмозговая! Башку сорву за эдакий грех!
— Дедуня! Да на что он нам сдался? Как его растить? Второго без отца в свет пускать? Да ни за что!
— Баба родить, а не убивать своих детей должна. Коль даст Бог жизнь, даст и хлеб ему. Не тебе о том печалиться. Коли загубишь, то и у самой отнимется, И кусок, и здоровье, все с тебя уйдет.
— Так что делать мне? Может и пронесет с дитем, а вот как Федька посмеялся надо мной!
— Погоди брехать не знавши. Не смей паскудить мужика, не ведая, что стряслось?
— Дедунь, подскажи, как мне быть?
— Присядь-ка вот тут, покуда спину согрею у камина. Выключи свет, давай посумерничаем с тобой, — предложил незлобиво.
— Попомни, Тонюшка, всяк мужик, какой бы с себя ни был, хочь он худче замусоленного таракана, завсегда себя выше бабы держит, пусть хочь королева, а ен перед ей едино корону не снимет. Помни про то! И Федька такой самый. Чем больше бабы мужуков осмеивают, тем больней от них получают. Так то и Федя. Ен старше тебя, но не старей. Голова и руки у него хорошие, грех иное брехнуть. Не пропойца, не озорник, не мот. Отец на него не жалуется. А уж какой в семье будет, никому не ведомо.
— Дед, а как мне себя вести с ним?
— Во распалилась! Иль сызнова на чердак потянуло? Чего квохчешь? Ну, достала тебя природа, ничего тут не поделаешь, молодая покуда, свое требуется. Опять же рассуди, сколь годов терпела, вся кругом одна. Вот и прижучило. Но впредь стерегись, не подпускай. Но и не косись на мужука диким зверем, не разевай варежку и не гони с хаты. На шею не кидайся тоже. Держись, будто промеж вас ничего не приключилось. Ровно он и не был хахалем. Как соседа держи его. Тяжко эдак, но прикажи себе, слышь, родимая?
— Слышу, — тихо отозвалась баба.
— Мужуки, все до последнего, ненавидят злых и ругливых баб. Но еще худче достается тем, какие сами им на шею вешаются, навязываются и ревнуют к кажному пеньку, неважно, есть в нем дырка или нет. Эдакими не дорожат. Их на всех перекрестках судят и мусолят. Берегись попасть на злые языки, в говне утопят. Не поддавайся и не сорвись.
— Я буду очень стараться, — пообещала тихо.
— Видать, Федька очень угодил тебе по мужичьей части. Иначе не егозила б, — глянул на Тоньку пристально, та густо покраснела, опустила голову.
— Понятно! Тяжко тебе будет сдерживаться. А надо! Не теряй себя, не стань той тряпкой, об какую ноги вытирают. Держись, ровно ничего меж вами не было. И вида не подай, что тебе тяжко. Старайся меньше вертеться на ево глазах и воспрети Колюньке тащить его сюда силком, чтоб не подумал, будто научаешь мальца. Знай, самое больное в этом деле — равнодушие. Его перенесть тяжко любому. Оно злее всех наказаний. Постарайся. И ты увидишь, как закрутится тот Федька, ночами спать не сможет, если он не кобель. Токмо таким все до заду. Но и тебе гуляка без нужды. Ну да ты враз смекнешь. Коль начнет вкруг вертеться, знать сидит в его душе теплина про тебя. А сразу не поддавайся, подержи форс, пусть змей побесится, — усмехался дед:
Читать дальше