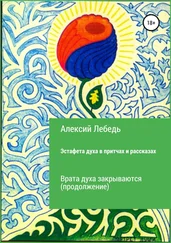Вот так он их напугал. А местные ученые тоже, надо сказать, больше всего любили водку, охоту да рыбалку. Как и писатели. А науку не любили. Попереминались они с ноги на ногу, повыходили из углов и давай жаловаться. Денег, мол, не хватает, с научными кадрами проблема.
— Ах, с кадрами проблема! — восклицает Келдыш. — Вон у вас в Красном Затоне выдающийся, можно сказать, физик и математик Револьт Иванович Пименов проживает. А вы его в электрики определили.
И откуда только узнал? Не иначе кто науськал. И выудили Пименова из электриков и пристроили в Академию наук.
Захожу как-то к нему — формулы на доске пишет.
— Чем заняты, — спрашиваю, — Револьт Иваныч?
— Черную дыру в космосе закрываю, — отвечает.
— А вчера что делали?
— А вчера открывал.
* * *
Лиснянская, кстати, не одна такая. Розанова тоже раньше грешила, по молодости. И все это знали. Приходит как-то в магазин, уже во Франции, и просит продать ей метлу. А продавец, не будь дурак, спрашивает:
— Мадам, вам завернуть или сразу полетите?
Так вот, Лиснянская тоже убеждена, что надо летать. Особенно всякому поэту. Без полета, говорит, поэта не бывает. Ну и ищет все время приключений.
— Хозяин! — это она меня так зовет, Хозяином. — Пошли покурим.
Мы так работаем. То она зовет покурить, то я. И вот сидим мы, курим и сплетничаем — то про Ахматову, то про Тарковского, то про соседского поэта Рейна (друга и учителя поэта Бродского), который вчера заходил и с морозу опять всю одесскую колбасу сожрал без спросу. Причем незаметно. Говорит-говорит и р-раз — кусок колбасы в рот. Вместе со шкуркой, как кот. А Лиснянская, как и все поэты, тоже любит одесскую колбасу. Причем на кусочки не режет, а ест так, от куска. И не то чтобы ей жалко колбасы для Рейна. Нет. Просто обидно. И от обиды в ней сразу проявляется такая особенность: она неожиданно начинает изъясняться в рифму. Вроде только что по-человечески говорила — и вот на тебе: в рифму. Обо всем. О том, что молоко скисло, что уличный кот не пришел вовремя сосиску съесть, что вода может в трубах замерзнуть, что метлы все Хозяин на всякий случай попрятал — все в рифму. Такая бытовая форма поэзии.
И вот сидим мы так, курим, а на улице снегу намело, собаки соседские воют и рыбы серебряные, как в аквариуме, стучатся в окно. Скоро Новый год.
* * *
Именно перед Новым годом, дня за три, и раздался тот роковой звонок от Револьта.
— Есть разговор, — заявил он. — Только не дома. Встречаемся на улице, у магазина.
А на улице градусов сорок. Хорошо еще без ветра. И ни души. Кому охота, кроме Пименова, в такой мороз гулять? Перешел он сразу к делу:
— Значит, так! Сеню Рогинского посадили. Он где-то здесь, в зоне под Ухтой.
Слушаю внимательно. Хотя про Сеню Рогинского первый раз слышу.
— Надо вытаскивать, — продолжает Револьт.
— То есть как вытаскивать? Из зоны?
— Из зоны, откуда же?
— Но это невозможно!
И тут черт меня дернул вспомнить про одноногого старика Баумштейна. Этот Баумштейн отсидел в свое время лет двадцать за коммерческие дела, а после еще остался работать на зоне — мастером в лесопилке. Прижился, видать. Так и работал, пока ему вагонеткой ногу не отхватило.
Так вот, этот Баумштейн, пытаясь произвести на меня впечатление, чтобы женить на своей стриженой дочке, постоянно хвастал, что по-прежнему чуть не во всех северных лагерях имеет солидные связи. И я решил рискнуть.
— Попробую выяснить, — обнадежил я Револьта и отправился к старику.
— Какие проблемы? — отреагировал Баумштейн. — Как раз в этой зоне у меня есть знакомый прапорщик, который мне кое-что должен. И чтоб я был без второй ноги, как без первой, если мы не сделаем твоего Сеню хотя бы зазонником. А там — и на “химию”.
Уже потом, через много лет, после того, как многотысячные толпы на центральной площади северного города скандировали имя Пименова, после того, как он вошел в первый российский парламент, сочинил Конституцию России и умер от сердечной недостаточности в одной из привилегированных клиник Берлина, на вечере его памяти в Москве ко мне подошел человек и представился Арсением Рогинским. И рассказал, что в зоне к нему подходил какой-то прапорщик, сунул в руку пачку сигарет и полпачки чая, передал привет с воли и, прежде чем раствориться, попытался задать пару наводящих вопросов.
Рогинский, конечно, сразу сообразил, что ему не могли передать полпачки чая. И — в глухую несознанку. Не знаю, мол, таких. Ну а не знаешь — и сиди себе до посинения.
Читать дальше





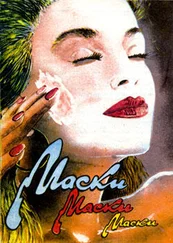
![Николай Метельский - Унесенный ветром - Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414780/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski-thumb.webp)