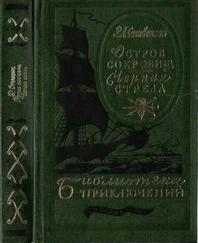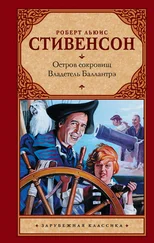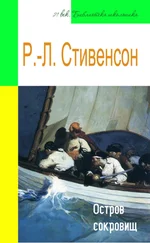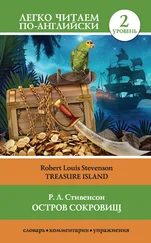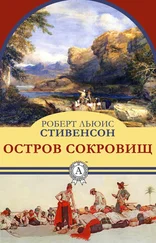С этими словами, говорил, он стал приподниматься с постели с таким большим трудом, держась за плечо с такой жестокой хваткой, что я едва не кричал от боли и навалившегося на меня веса. Его слова, энергичные, как всегда, при этом грустно контрастировали с тем едва слышным, слабым голосом, каким они теперь их произносились. Когда ему наконец удалось сесть, он сделал длинную паузу, а потом стал бормотать.
– Этот доктор сгубил меня! – прошептал он, – Напел в мои уши! Сглазил меня! Помоги мне лечь!
Прежде чем я успел что-то сделать, чтобы помочь ему, он снова вернулся на свое прежнее место, и некоторое время молчал.
– Джим, – сказал он наконец, – ты видел этого моряка сегодня?
– Черного Пса? – спросил я.
– Ах! Черный Пёс! -повторил за мной он, – Он плохой, но есть еще хуже. Знаешь, если я не смогу уйти отсюда сегодня, они подкинут мне черную метку, заметь, мой старый морской сундук, они идут за ним, ты сразу скачи отсюда на лошади – ты сможешь, не так ли? Ну, тогда ты садись на лошадь и скачи… ну, да! – к этому вечному клистирному докторишке и скажи ему, чтобы он трубил во все трубы – поднял на уши все магистратуры и судей – надо накрыть всех этих крыс на борту «Адмирала Бенбоу» – всех членов экипажа старого Флинта, всю эту банду, старых и молодых, всех, кто ещё остался жив! Я был первым помощником, я был им, я старый шкипер Флинта, и я тот, кто знает это место! Он открыл его мне в Саванне, когда умирал, так же, как я сейчас, вы видите. Но ты не будешь молодцом, если они не получат от меня черную метку, или если ты не увидишь, что Черный Пёс моряк с одной ногой снова здесь, или… Джим – это прежде всего… Опасайся одноногого больше всего, Джим!
Сказав это с большим напряжением, он тяжело и с большим трудом встал с постели, вцепившись в моё плечо мёртвой хваткой, которая почти заставляла меня вскрикивать и двигал ногами, почти как манекен.
– Что такое черная метка, капитан? – спросил я.
– Это приговор, приятель. Я скажу тебе, если они пришлют её! Но ты держи глаз открытым, Джим, и я поделюсь с тобой половиной всего, что у меня будет, положись на мою честь!
Он бредил всё сильнее, его голос становился все слабее; но вскоре после того, как я дал ему лекарство, которое он взял, как ребенок, он вдруг заметил:
– Если где-либо моряк круглые сутки напролёт хотел чортова зелья, то это был я!
Наконец он впал в тяжелый, мучительный обморочный сон, и я оставил его. Всё ли я сделал правильно из того, что должен был сделать, я не знаю! Вероятно, мне следовало рассказать всю историю врачу, но я был в смертельном страхе, чтобы капитан не раскаялся в своих признаниях и не прикончил меня. Но всё складывалось по-другому. Поздно вечером умер мой бедный отец, и мы с матерь забыли обо всём остальном. Наше бедствие, визиты соседей, похороны и вся работа на постоялом дворе, которая не могла не продолжаться, удерживали меня настолько занятым, что я едва успевал подумать о капитане, и потому гораздо меньше, чем раньше бояться его.
На следующее утро он спустился вниз, и, как обычно позавтракал, хотя и без обычного аппетита. На сей раз он сам орудовал в баре, и я боялся, что он переборщит с ромом. Пил он хмуро, трубя в нос, и разумеется, никто не осмелился остановить его. В ночь перед похоронами он был пьян, как обычно. Находясь в глубоком трауре, мы были шокированы тем, что он стал петь свою уродскую морскую песнею; но теперь —слабым голосом. Несмотря на это, мы находились в состоянии страха, доктора ждать не приходилось – его вызвали к больному за много миль от нас. Тем более, что после смерти отца у него не было поводов посещать нас. Я уже сказал, что капитан как-то ослаб, и действительно, он, казалось, с течением времени скорее слабел, чем набирался сил. Он тяжело взбирался по лестнице и выходил из гостиной в бар, и иногда выставлял свой нос на двери, чтобы почувствовать запах моря, но уже держась за стену, и тяжело дыша, как человек, штурмующий горы. Он никогда особо не обращался ко мне, и мне кажется, уже забыл свои доверительные беседы со мной, как забыл его доверчивость, его характер стал ещё более вспыльчивым, несмотря на его растущую слабость. Тревога не оставляла его, когда он был пьян, то вытаскивая свой кинжал и держал его перед собой на столе. Но при всем этом он всё меньше и меньше думал о людях и, казалось, заперся в своих блуждающих с страшных видениях. Однажды, например, к нашему крайнему удивлению, он начал насвистывать мотив древней любовной песенки, которую, должно быть, знал и насвистывал в далёкой юности, прежде чем связал свою жизнь с морскими приключениями.
Читать дальше