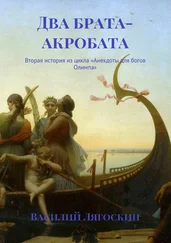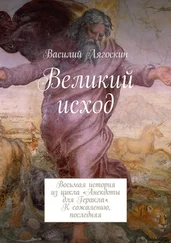– А может, ну его, Зевса… и всех его красавиц-дочерей вместе с ним. Может, мне занять место этого ничтожества, и возглавить поход к последнему морю? Ах, да – моря-то такого нет… Значит – будем покорять планету. Русь дремучую, чванливую Европу. Америку открою; налогами обложу весь мир так, что…
– Пап, вот тут пишут, что татаро-монголы обложили народ такой данью, что он ни вздохнуть, ни пукнуть не мог. Выгребали все, оставляли лишь самый минимум. Интересно было бы на себе это прочувствовать.
– Вот женишься, сынок, прочувствуешь…
Две части артефакта наконец соединились – даже без помощи Алексея – и он, подпрыгнувший на месте от электрического разряда, на этот раз достаточно мощного, тут же выбросил бредовые мечтания из головы. Гораздо сильнее его сейчас занимал вопрос:
– Это что, с каждым разом будет бить все сильнее? Так даже сердце полубога может не выдержать.
Он, ворча и ругаясь, полез из юрты в Царство мертвых. Напоследок он бросил взгляд на лицо Потрясателя вселенной. Старик привалился к войлочной стене и хрипло дышал. Его лицо даже в красноватых огнях жаровни было неестественно бледным. Сизоворонкин представил себе, какое будет выражение этого лица, когда Чингисхан увидит раскуроченный сундучок, и понял, что о сердце нужно думать совсем не ему, Алексею.
– Что там у нас еще оставалось? – задал он себе вопрос, останавливаясь у очередного светлого пятна, – тщеславие, гнев, алчность?.. О! – печаль!
В окошке он увидел картину, достойную кисти великого художника, отразившего неизбывную печаль Аленушки у пруда. К собственному стыду, Сизоворонкин не помнил, кто написал этот шедевр.
– Какой стыд у полубога? – задал он себе вопрос, – к тому же такого греха в списке досточтимого Евагрия Понтийского нет. А в качестве наказания за собственную дремучесть обязуюсь прогнать печаль из глаз этой красавицы.
Красавица действительно была достойна кисти самого великого художника. В этой белокурой девушке не было ничего общего с неистовой Лилит, страстной Клеопатрой, и очень раскрепощенной Артемидой. Сизоворонкин мысленно наделил этими чертами незнакомку, поднявшую к нему печальные глаза, и результат ему очень понравился. Он огляделся. Вокруг был парк; ухоженный и безлюдный. Незнакомка сидела на скамье у пруда, явно искусственного, и молчала.
– О чем грустим, красавица? – бодро заявил Сизоворонкин, присаживаясь рядом.
– А чему радоваться? – на безукоризненном немецком языке ответила та, поразив полубога еще и мелодичностью своего голоса, – тому, что все тлен, тщета и суета? Что все проходит, и жизнь, и любовь? Что тебя – как бы ты не был благочестив и милосерден – забудут не через поколения; через годы, а может, часы?
– Благочестив и милосерден? – Алексей едва не расхохотался про себя, – жги, убивай и насилуй – и тебя не забудут… да хотя бы и через восемь сотен лет, как того же Чингисхана. А тебя, милая, будут помнить разве что мужики, к которым ты снизойдешь. А не снизойдешь – плюнут, и пройдут мимо.
В лице незнакомки образ вселенской грусти не дрогнул; она словно забыла, что рядом сидит молодой да пригожий парень, каких поискать – вряд ли найдешь. А парень, как не сомневался Сизоворонкин, был доктором как раз для таких вот дамочек. Он ничуть не удивился и не обиделся на наплевательское к себе отношение. Напрягать могучие мускулы – рук, груди, ног… ну еще кое-каких, не менее интересных, он не стал. Зато достал из кое-как сооруженной набедренной повязки, в которой ухитрился устроить карман, волшебный артефакт. Девушка, которая даже не назвалась, на Грааль посмотрела лишь с чуть заметным удивлением.
– Отец сегодня уже поил меня из Сосуда Благочестия, – равнодушно заметила она.
– Отец? – хмыкнул Сизоворонкин, – он сам тоже пьет из этого… сосуда?
– А как же?! – все-таки удивилась незнакомка, – и сам он, и я, и мои младшие братья и сестры.
– Младшие сестры – это хорошо, – проворчал Лешка-Геракл, – я, пожалуй, наведаюсь сюда еще раз… попозже. А пока, милая, прими-ка внеочередную дозу лекарства. Пей-пей!
Девушка слабо трепыхнулась в могучих объятиях полубога. Алексей не отрывал с нежного лица глаз. Ему было безумно интересно наблюдать сам процесс трансформации безразличной ко всему особу в…
– Ох, ты! – воскликнул он, когда глаза незнакомки, в которых загорелись хищные огоньки, остановились на его лице с плотоядным выражением.
– Ах, ты! – это он воскликнул, когда девушка буквально вырвала у него Грааль, и прильнула к горлышку, глотая жадно и нетерпеливо, не отпуская, впрочем, второй ладошки с узла набедренной повязки.
Читать дальше