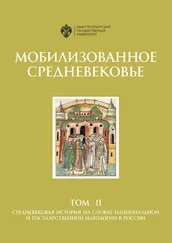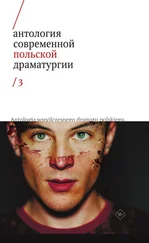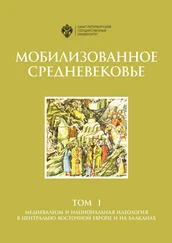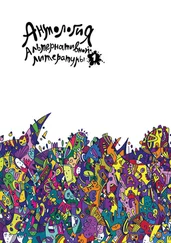См.: Аристотель. Физика. С. 104 и др.
Гильберт различает «природное» и «естественное». Первое выражают не только термины natura, nativus, genero, generatio, второе — genuinus, двуосмысленный термин: одно его значение (от gigno) — природный как неподдельный, истинный, а другое (от gena) связано с глазной орбитой и прикрывающим ее веком. Само это словоупотребление, если его рассмотреть в связи с анализом Гильбертом всех возможностей и способностей субстанции как телесной, так и бестелесной, чрезвычайно важно, ибо вводит Аристотелеву идею становления в новый философский контекст, обнаруживая «подпорки», соединяющие воедино, не давая распасться, рожденное с естественным, конципированные к тому общим словом „природа" В этой точке соединения, скажем, в этом соединяющем гене вечное не только репрезентируется, но и обнаруживает свое полное присутствие, а глазная орбита есть сфера соединения разных мерцающих (в силу природного возникновения-уничтожения) точек зрения.
Категории Аристотеля, то есть «слова, высказываемые вне всякой связи» (Аристотель. Категории. М., 1939. С. 6), рассматриваются изначально как разновидности любой из них — качества или, как мы увидим ниже, — количества, которое образует и самое сущность (см. рассуждения о «ничто»), то есть категории лишаются своей категоричности.
Элементы — стихии: огонь, вода, воздух, земля.
Ср.: «Дело тут вот в чем: деревянное ложе, [например], также непременно будет стремиться вниз, и падает вниз оно привходящим образом» (Боэций. Против Евтихия и Нестория. С. 170).
Этим и дальнейшим рассуждением обосновываются, по крайней мере, две вещи, на которые хотелось бы обратить внимание:
1) Средневековая онтология случайного. В № 9 журнала «Вопросы философии» за 1996 г. опубликована статья Ю. В. Чайковского «Степени случайности и эволюции», где он, ссылаясь на Боэция, говорит о том, что Средневековье игнорировало проблему случайного как онтологическую, опираясь на неточно, на мой взгляд, прочитанное «Утешение философией» Боэция. О том, как продумывалась эта проблема в Средние века см. мои работы: Слово и текст в средневековой культуре. История: миф, время, загадка. М., 1994; Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск, 1995; Верующий разум. Книга Бытия и Салический закон. Архангельск, 1995 (ст. «Прецедент Салического закона», а также: Хоружий С. С. Введение и Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия. М., 1995.
2) Вещь становится истинной не тогда, когда получила имя (поименованное нечто — aliquid, то есть «что», иное, чем другое «что», — всегда подразумевает это невидимое «иное что») или когда с нею что-то происходит (ложе падает не в силу того, что оно — ложе, а в силу того, что оно — земля, то есть падает нечто, имеющее другое имя). Она оказывается этой, реальной вещью и не в воображении: бытие вещью и воображение вещи — это формы реальности, причем без реальности воображения тело не стало бы телом. Можно сказать, что все аффекции в теле происходят только с учетом воображения и образуют плоть. Гильберт же тонко отличает реальность от истинности, ибо последняя может быть неовеществленной. Истинной вещь становится тогда, когда выполняет конкретную, только ей присущую функцию этой вещи. Функция же ложа в том, чтобы на нем лежали, причем в данный конкретный момент, в любом другом случае оно — лишь образ ложа, как и весь мир — лишь образ мира, если он не исполняет функцию «чистого единства», а любимое всем Средневековьем местоимение «это» чаще всего указывает — причем столь же определенно — на «то». Репрезентация есть условие презентации, полного присутствия «того», как и наоборот: лишь при полном присутствии «того» возможна репрезентация «этого»: случайное соединение земли и дерева (рода и вида) обеспечивало полное онтологическое присутствие ложа. Более того, эта функция обеспечена не природой, а искусством. Земля, которая есть род ложа, тоже может быть местом, где лежат, но она элемент, стихия, природа, ее функция — в ином. Если рассматривать ее (как и другие элементы) в плане проблемы универсалий, то она есть общее выражение не лежбища, а низа. Nihil же образуется силой воображения «между» порождающим (им может быть и Бог) и искусственным (им могут быть и элементы в качестве тварных). У «ничто» не местоположение, а предположение, где нет ни вещи, ни имени, а только туманный образ чего-то еще безымянного. Потому «ничто» — предельная универсалия, «схватывающая» в воображении вещь и не-вещь, бессловесное и имя.
Читать дальше