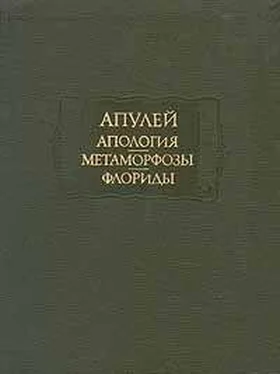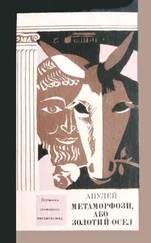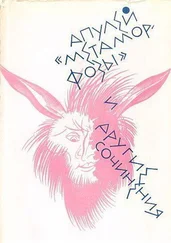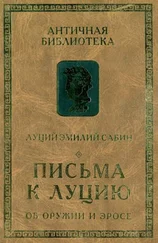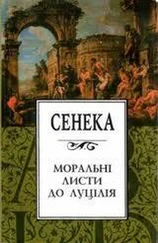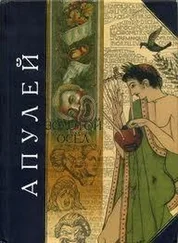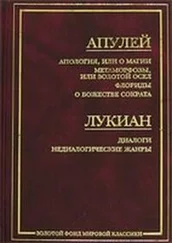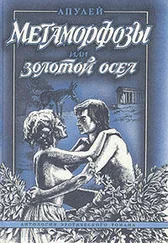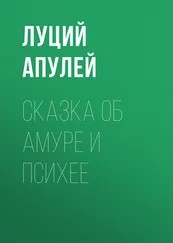Представьте себе, что вы ведете дело не перед Клавдием Максимом, человеком справедливым и неизменным блюстителем правосудия; поставьте на его место какого-нибудь другого судью, несправедливого и жестокого, благосклонно внимающего обвинениям, жаждущего осудить обвиняемого. Дайте же ему тропинку, по которой он мог бы пойти, предоставьте ему хоть намек на справедливый повод вынести приговор в вашу пользу. Сочините, в конце концов, что-нибудь, придумайте, что отвечать, если бы он задал вам те же вопросы, что и я. И так как всякому покушению обязательно должна предшествовать хоть какая-нибудь причина, то отвечайте, вы, утверждающие, что Апулей со своими магическими приманками напал на душу Пудентиллы: чего он от нее хотел, почему так поступил? Пленился ее красотой? Нет, – отвечаете вы. Желал ее богатства, по крайней мере? Нет, – отвечает брачная запись; нет, – отвечает дарственная запись; нет, – отвечает завещание. Все эти документы показывают, что он вовсе не стремился, обуреваемый жадностью, воспользоваться щедростью своей жены, но, напротив, резко отверг эту щедрость. Так какая ж еще была причина? Что же вы онемели, что молчите? Где это грозное начало вашей жалобы, составленное от имени моего пасынка: «Я решил, Максим, господин мой, привлечь его к твоему суду»?
103. Что же ты не прибавишь еще: «привлечь к суду моего учителя, моего отчима, моего заступника»?… Но что написано дальше? «Я обвиняю его в преступлениях необычайно многочисленных и совершенно очевидных». Подай-ка сюда хоть одно из этих «необычайно многочисленных», подай сюда хотя бы одно сомнительное или вовсе не поддающееся объяснению действие из этих «совершенно очевидных преступлений»! Впрочем, я отвечу на каждое из ваших обвинений не более чем двумя словами. Считай! «Чистишь зубы» – прости за чистоплотность. «Смотришься в зеркала» – обязанность философа. «Пишешь стихи» – это разрешено. «Исследуешь рыб» – Аристотель предписывает. «Освящаешь дерево» – Платон советует. «Женишься» – законы предписывают. «Она старше тебя» – нередкий случай. «Ты гнался за наживой» – возьми контракт, вспомни дарственную, прочти завещание… Если все это я достаточно опроверг; если рассеял всю клевету; если после всех обвинений и даже после всей этой брани я все так же далек от всякой вины; если я ни в чем не уронил достоинства философии, которое для меня дороже собственного спасения; если, напротив, я во всем поддержал это достоинство всеми «семью перьями» [359]; если дело обстоит так, как я сказал, то я могу спокойно и почтительно ожидать твоего суждения, вместо того чтобы опасаться осуждения [360]. Потому что я считаю менее тяжелым и страшным для себя подвергнуться осуждению перед судом проконсула, чем выслушать хотя бы малейшее порицание от человека столь справедливого и столь безупречного.
Я кончил.
II век н. э. принято характеризовать в современной исторической науке как «эпоху временной стабилизации империи»; общепринятый прежде термин «золотой век Антонинов» подвергся строгому пересмотру и вполне обоснованной критике, так как даже в течение этого века, сравнительно спокойного в области внешней политики, внутренний процесс распада и перерождения античного рабовладельческого строя неудержимо шел вперед. Однако было бы несправедливо отрицать, что время правления Антонинов все же представляло собой некоторое затишье между отшумевшими бурями эпохи Клавдиев и Флавиев и надвигающимся кризисом III века, едва не приведшим империю к полному крушению. Отсутствие внешних войн и быстрой смены правителей, все более тесные и оживленные сношения между восточной и западной частями империи дали возможность развиться новой своеобразной культуре, не носящей ярко выраженного национального характера, культуре синкретической и космополитической. Синкретизм охватывает все области умственной и духовной жизни: в философии начинают стираться резкие границы между школами; даже наиболее далекие друг от друга стоики и эпикурейцы в области этики сближаются друг с другом, а с другой стороны, космология стоиков связывает их с идеализмом и эклектизмом Академии и неопифагорейства; более того, философия, как целое, начинает терять свой прежний рационалистический характер и метод и постепенно сливается с религиозно-мистическими учениями и культами, существовавшими искони, но не имевшими прежде ничего общего с философией, как таковой. В этот общий поток вовлекаются и литература и язык: границы между чисто-греческой и чисто-римской литературой стираются, так как римляне начинают писать по-гречески (напр., Элиан), а греки, египтяне, африканцы – по-латыни. Знание двух языков и свободное владение ими становится необходимым признаком образованности, а сама эта образованность становится все более широкой, но вместе с тем и все более поверхностной; с ней прекрасно уживаются самые нелепые суеверия, вера в магию, чудеса, превращения, призраки и демонические существа; отдельные писатели, как Лукиан, тщетно пытаются бороться против иррационализма, но и они не могут дать ничего, кроме скептического и иронического отношения ко всему существующему, не могут дать положительных идей и руководства в жизни и вынуждены уступить роль руководителей представителям самых различных культов, то фанатикам, то шарлатанам. Вся эта странная эпоха с ее сочетанием мистики и скептицизма, показного блеска и внутренней опустошенности, беспокойных поисков чего-то лучшего и полного равнодушия к любому проявлению жестокости, подлости и разврата – вся она нигде не отразилась более ярко и всесторонне, чем в творчестве талантливого африканца Апулея.
Читать дальше