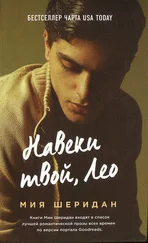Без четверти двенадцать я намеревалась прервать работу и, взглянув на часы, спросила: «Как же я доберусь домой после полуночи? Ведь комендантский час…». Он ответил: «Я сам вас отвезу». Мы отправились около половины первого ночи. Нас сопровождал человек в форме, который занял место рядом с шофёром. В руках он держал огромного размера кожаную кобуру. Сначала мы поехали в другую сторону, и я пыталась объяснить, как проехать. Шофёр развернул машину. На мосту нас остановил вооружённый патруль из пяти красноармейцев. Человек с кобурой вынужден был предъявить пропуск, поднеся его к свету от фар. Это задержало нас на несколько минут. Я обратилась к Троцкому: «Высуньте голову из окна и скажите им, кто вы такой». «Taisez-vous» (Замолчите!), - скомандовал Троцкий. Получив выговор, я сидела молча, пока длилась проверка, и неузнанные, мы отправились дальше. Чуть позже он объяснил, что не хотел, чтобы они услышали в машине женский голос, говоривший по-английски. Я же, как всегда, обратилась к нему по-французски. И какое это имеет значение, есть или нет в правительственной машине какая-то женщина? Но я не стала спорить.
21 октября 1920 года. Москва.
Я навестила своего знакомого, формовщика, который за один день работы в моей студии получает несколько тысяч рублей. Он отливает копии бюстов, поэтому я имею возможность получить дубликаты своих работ. Я интересовалась у Андреева, почему ему так много платят. Андреев объяснил, что в Москве больше таких мастеров нет, поэтому он может требовать за свою работу столько, сколько захочет, говоря: «Я буду работать за это, а не за то». И Андреев потряс тысячерублёвой бумажкой, а в другой руке он держал сторублёвую купюру. «Но на самом деле это всё одно и тоже, только эти бумажки выглядят по-разному», - рассмеялся Андреев. Да, действительно, деньги в этой стране не имеют ценности и значения, всё равно магазинов нет даже продовольственных и купить ничего нельзя.
В восемь часов в машине Троцкого я вернулась в Комиссариат Армии и Флота. С порога я заявила, что сегодня намерена сделать всё правильно, и чтобы он воздержался с критикой, не вмешивался, и не заставлял меня нервничать. Троцкий удивился и признался, что и понятия не имел о своём влиянии на меня. Он пояснил, что хотел только оказать помощь и поддержку. «Je veux travailler cela avec vous». Его критицизм, сказал Троцкий, основывался на глубоком интересе, и ни в коем случае он не имел в виду охладить мой пыл. В конце концов, он пообещал вести себя корректно и не навязывать своего мнения, пока не спросят. Работать в тот вечер было легче. Я чувствовала себя спокойнее, и у меня всё получалось.
Основные препятствия, таким образом, были преодолены. Троцкий по моей просьбе встал так, чтобы на него хорошо падало освещение, и диктовал что-то стенографистке. Всё шло отлично. Его лицо оживилось и внимание переключилось. Я полностью завершила работу над одной стороной его лица. Затем возникла необходимость переключиться на другую сторону. Он засмеялся, сказал, что продолжит диктовку, развернулся и снова вызвал стенографистку. Когда мы опять оказались одни, Троцкий подошёл и встал рядом. Пока я продолжала работать, мы разговорились. На этот раз – обо мне. Он предложил остаться в России подольше и сделать какую-нибудь крупную композицию, что-нибудь в роде «Victory»: «Истощённая и измождённая фигура, не прекратившая борьбу – вот аллегория Советов».
Я ответила, что давно не получала никаких известий о детях, и поэтому мне необходимо ехать домой.
- Я должна вернуться в привычный для себя мир, к моим близким, которые, прежде всего, считаются с тем, что о них подумают окружающие. Россия, в которой отсутствует лицемерие, Россия со своими грандиозными идеями только портит меня.
- Ах! Это сейчас вам так кажется, но, когда вы окажетесь далеко…, - и он запнулся. Затем Троцкий резко повернулся ко мне, стиснув зубы и сверкая глазами, и стал грозить пальцем у меня перед носом: «Если, когда вы вернётесь в Англию «vous nous calomniez», как и все остальные, я предупреждаю вас, вы придете в Англию «et je vous …». Он не закончил фразы и не сказал, что бы он со мной сделал, но при этом у него было зловещее лицо. Я улыбнулась: «Хорошо. Теперь я знаю, как заманить вас в Англию». И подыгрывая его настроению, добавила: «Как же я могу, вернувшись обратно, злоупотребить гостеприимством и галантным обхождением, которые мне здесь оказывали?».
Он ответил: «Это не злоупотребление, существует много способов критики без оскорбительной брани. Это здесь легко ничего не замечать par les saletes et les souffrances и далеко не заглядывать. А людям свойственно забывать, что всякие роды сопровождаются страданием и страхом, и Россия сейчас рождается в больших муках». У него явный талант оратора, его переполняют идеи, и ко всему прочему – у него прекрасный голос.
Читать дальше