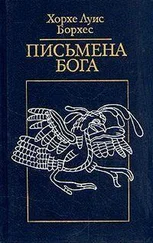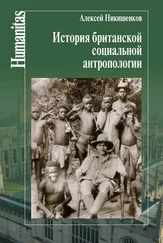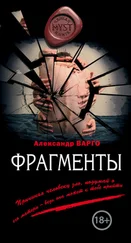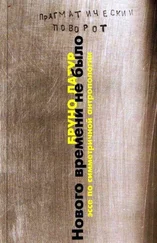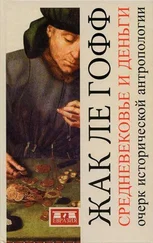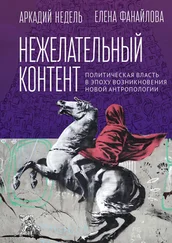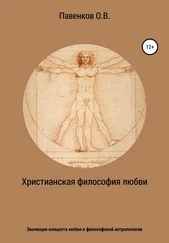Оглядываясь назад, кажется удивительно наивным старое представление о том, что единственное восстание или успешная гражданская война могла бы уничтожить всю систему структурного насилия, по крайней мере на определённой территории, что на этой территории правые реалии можно было бы просто отбросить и открылось бы поле для беспрепятственного проявления революционного творческого порыва. Но меня озадачивает то, что в определённые моменты истории именно так и происходило. Мне кажется, что, если мы хотим получить возможность схватить новую зарождающуюся концепцию революции, начать стоит с обдумывания качества этих революционных ситуаций.
Одно из наиболее удивительных свойств таких моментов — это то, что они, кажется, появляются из ниоткуда, а затем зачастую так же быстро растворяются. Как возможно, что та же самая «общественность», которая за два месяца до, скажем, Парижской Коммуны или Гражданской войны в Испании голосовала за умеренный социал-демократический режим, вдруг готова рисковать своей жизнью ради тех же ультра-радикалов, которые ранее получили малую долю голосов? Или, возвращаясь в май 1968-го, как могла та же общественность, которая казалось бы поддерживала идеи студенческого и рабочего восстания или по крайней мере симпатизировала им, могла сразу после этих событий вернуться на избирательные участки и избрать правое правительство? Самое распространённое объяснение, что, мол, революционеры на самом деле не представляли интересы общества, но некоторые слои общества, вероятно, оказались заложниками какого-то иррационального брожения, очевидно не соответствуют действительности. Прежде всего, они предполагают, что «общественность» — это организм со своими мнениями, интересами и убеждениями, который можно считать относительно постоянным во времени. На самом деле то, что мы называем «общественностью», создаётся специальными учреждениями, которые разрешают определённые формы действий: можно голосовать, смотреть телевизор, подписывать обращения или писать письма выбранным чиновникам, или посещать общественные обсуждения, но нельзя делать ничего другого. Эти поведенческие рамки предусматривают, что мы говорим, думаем, спорим, размышляем определённым образом. Та же самая «общественность», которая наслаждается рекреационными наркотиками, может так же последовательно голосовать за запрет подобных наслаждений; одна и та же группа граждан может прийти к абсолютно разным решениям по вопросам, касающимся их сообществ, если они действуют в рамках парламентской системы, системы электронных референдумов или последовательной вереницы народных собраний. На самом деле весь анархический проект по введению прямой демократии основан на предположении, что общественность — искусственная совокупность.
Чтобы понять, что я имею в виду, представьте, что в Америке те же самые люди, которые в одном контексте называются «общественностью», в другом — могут называться «рабочей силой». Разумеется, «рабочей силой» они становятся при вовлечении в разные виды деятельности. «Общественность» не работает: по крайней мере, предложение вроде «большинство представителей американской общественности работают в сфере обслуживания» никогда бы не появилось на страницах журнала или газеты — если бы журналист попробовал так написать, редактор бы непременно его исправил. Это тем более странно, потому что общественности всё же приходится работать: поэтому, как часто отмечают левые критики, СМИ всегда будут писать, как, скажем, забастовка работников транспортной отрасли доставляет неудобство общественности, имея в виду пассажиров, но им никогда не придёт в голову, что бастующие тоже являются частью общественности или что, если они добьются повышения зарплаты, это будет во благо общественности. И, конечно же, общественность не выходит протестовать на улицы. Её роль сводится к просмотру общественных спектаклей и потреблению общественных услуг. Если люди покупают или используют товары и услуги, которые поставляют им другие, та же группа людей становится «потребителями», а в других условиях её назовут «нацией», «электоратом» или «населением».
Все эти совокупности людей — продукт учреждений и формальных норм, которые, в свою очередь, определяют чёткие границы возможного. Следовательно, голосуя на парламентских выборах, человек чувствует себя обязанным сделать «реалистичный» выбор; в революционной ситуации, с другой стороны, внезапно всё кажется возможным.
Читать дальше