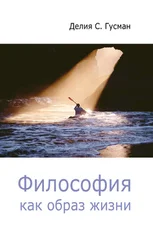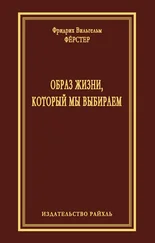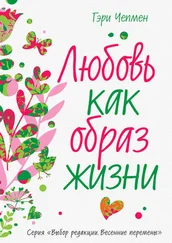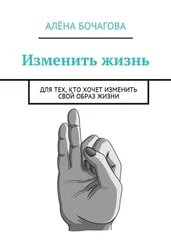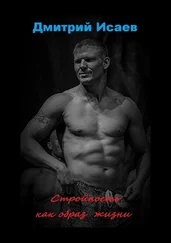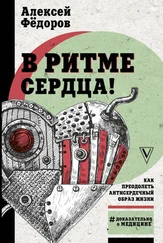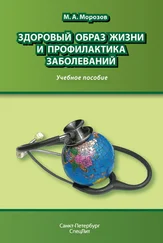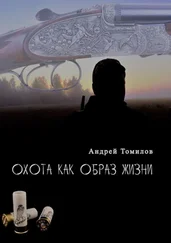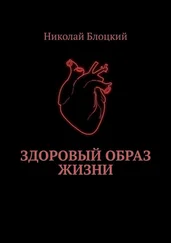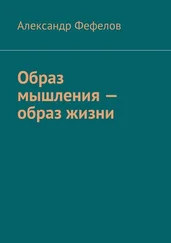ИВИ РАН - Ненасилие как мировоззрение и образ жизни
Здесь есть возможность читать онлайн «ИВИ РАН - Ненасилие как мировоззрение и образ жизни» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 0101, Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ненасилие как мировоззрение и образ жизни
- Автор:
- Жанр:
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ненасилие как мировоззрение и образ жизни: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ненасилие как мировоззрение и образ жизни»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ненасилие как мировоззрение и образ жизни — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ненасилие как мировоззрение и образ жизни», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
В «Правилах» Василий Великий подчеркивает, что отношения с врагом должны основываться на следующих евангельских словах: «...что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь... вынь прежде бревно из своего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7, 3, 5). Это тем более необходимо, если человек сам заразился гневом, уязвлен обидой, не говоря уже о том, если он действует так же, как и его оскорбитель. В этом случае св. Василий замечает: «... в чужой порок всматриваешься внимательно, а что гнусного в тебе, то ставишь ни во что? Обида разве не худое дело? Бегай же подражания» (Т. 2. С. 164). Однако вглядеться в себя критически и спокойно перенести оскорбление словом или делом возможно только, если человек не признает себя «достойным чего-либо великого» и не считает, что любой другой человек гораздо ниже его по достоинству (Т. 2. С. 165). «В таком случае, — подчеркивает автор, — бесчестия никогда не приведут нас в раздражение» (Т. 2. С. 165). Такое поведение лишает врага всякого удовлетворения, поскольку кто «бьет не чувствующего боли, тот сам себя наказывает, потому что и врагу не отмщает, и своего раздражения не успокаивает; и кто оскорбляет словами человека, не трогающегося укоризнами, тот не может найти удовлетворения страсти; а, напротив того,... разрывается с досады» (Т. 2. С. 163). Эти слова св. Василия не должны быть поняты как злорадство. Они являются лишь констатацией очевидного факта. Позиция архиепископа Кесарийского исполнена глубочайшего милосердия и снисхождения к человеку, одержимому страстью гнева. Он лишь пленник дьявола, который является единственным врагом человека и старается преклонить его волю ко злу. Св. Василий так писал об этом: «Жалок, кто служит орудием действия; но ненавистен, кто действует. Против него обрати свою раздражительность — против человекоубийцы, отца лжи, делателя греха; но будь сострадателен к брату, который если пребудет во грехе, то вместе с диаволом предан будет вечному огню» (Т. 2. С. 167).
Сталкиваясь с насилием, человек не только должен с любовью отнестись к своему врагу, но и за все благодарить Бога. В 4-й гомилии «О благодарении» св. Василий вопрошает: «Ужели благодарить, когда меня мучат, издеваются надо мною, растягивают меня на колесе, выкалывают мне глаза?... когда ненавистник наносит мне бесчестные удары?...» (Т. 2. С. 101). По мнению автора, только надежда на будущее воздаяние после смерти может облегчить житейские скорби. «Обесчещен ты? Но взирай на славу, какая уготована за терпение на небесах. Нанесен тебе убыток? Но простирай взор к небесному богатству и к сокровищу, которое собираешь себе добрыми делами. Изгнан ты из отечества? Но имеешь отечеством Небесный Иерусалим» (Т. 2. С. 107).
Существует еще один источник, в котором взгляды св. Василия на проблему насилия раскрываются в связи с конкретными случаями, в том числе из жизни самого Василия. Это его письма.
В письме Кандидиану св. Василий рассказывает об ограблении своего дома. Практически все находившееся в нем имущество было расхищено. Вор известен. Св. Василий не требует ни возвращения украденного, ни сурового наказания виновного. Его единственная просьба заключается в том, чтобы начальник селения, где проживал грабитель, заключил его на короткое время в тюрьму, потому что, как пишет св. Василий, «не только негодую за то, что потерпел, но имею нужду в безопасности на будущее время» (письмо 3) (Т. 3. С. 10). Конечно, это только эпизод из жизни будущего архиепископа Кесарийского. Но эпизод достаточно характерный.
Применить силу или по крайней мере какое-то принуждение св. Василий считает возможным и в случае других «нарушений законов общежития». Например, в 270-м письме 12(Т. 3. С. 340) о похищении девицы он прямо указывает: «...вооружись против преступления, как должно; и девицу, где ни отыщешь, употребив все усилия, отними и возврати родителям; а самого похитителя лиши общения в молитвах, и провозгласи отлученным также и тех, которые помогали ему... каждого со всем домом лиши на три года общения в молитвах. И то селение, которое приняло к себе похищенную, скрывало ее и даже удерживало силою, не исключая никого из жителей оного, отлучи также от общения в молитвах...».
Особое место занимает 217-е письмо 13к Амфилохию о правилах. В 55-м, 56-м и 57-м правилах святитель касается вопроса об убийстве и устанавливает порядок покаяния за убийство. В частности, в 55-м правиле св. Василий указывает, что те, кто вступили в битву с разбойниками, если они не являются служителями Церкви, не допускаются до причастия. Те же, кто принадлежит к причту, должны быть низложены со степени. При этом архиепископ ссылается на следующие слова Евангелия: «...все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52) (Т.З. С. 253). Подобное запрещение мы встречаем в 13-м правиле 188-го письма 14, в котором пришедшему с войны запрещалось причащаться в течение трех лет (письмо 188, 13) 15. И это несмотря на то, что, подобно Афанасию Александрийскому (см. письмо к Аммуну), св. Василий полагал, что убийство на войне не есть преступление (письмо 188, 13) и даже солдат может сохранять в себе чистоту веры и жизни (письмо 106, а также гомилия о воине-мученике Гордее). Если же человек виновен в произвольном убийстве, то он в течение 20 лет не должен приобщаться. В случае непроизвольного убийства причащаться не дозволялось в течение 10 лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ненасилие как мировоззрение и образ жизни»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ненасилие как мировоззрение и образ жизни» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ненасилие как мировоззрение и образ жизни» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.