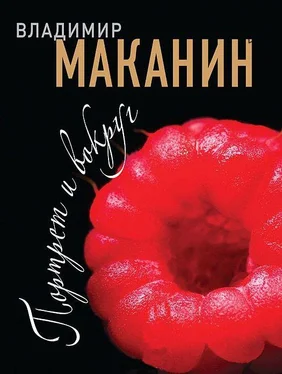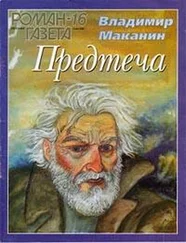— Так я приеду. Слышишь?! Слышишь? Соберусь и приеду, — говоришь ты, тронутый (а точнее сказать — ошарашенный) ее слезами.
— Не обязательно, — отвечают тебе. — Это я так. Нервы.
Она отвечает и слышит в эту минуту самое себя, как некоторые мистики слышат бога. Фразы ее после маленькой истерики сочны, упруги, свежи — слова блестят, как блестят листья после дождя.
* * *
Летом мы отбыли в деревню.
Мои старики выглядели неплохо, даже лучше, чем я ожидал, — последний, видимо, всплеск жизни. Им было уже под семьдесят, самые те годы. Дом состарился и заметно врос в землю. И яблони раскорячились — тоже старость. Но белый налив был все так же хорош и нежен. И мать все так же стеснялась возить его на продажу. То есть она преотличненько возила, и продавала, и торговалась, и всякое такое, но, если Машка, я и жена приезжали, стеснялась. Ей не давало покоя, что она школьная библиотекарша.
— Какая ты теперь библиотекарша? — сказал я. — Теперь ты пенсионерка.
— Была ж ей.
— Что?
— Была ж библиотекарша как-никак. — И она строго поджала губы. Библиотека в школе и торговля на базаре для нее в эту минуту были несовместимы.
Старая закваска. Ни убедить, ни объяснить. Белый налив так и погнил вполовину. А базар, как выяснилось, был теперь всего в двух километрах — на пыльном перекрестке. То есть и везти далеко не надо. Я бы сам отнес яблоки. Я бы постоял у прилавка. Я бы продал. Она едва не упала в обморок, когда я предложил погрузить белый налив мне на спину и двинуться с ней вместе к перекрестку.
Отец стал совсем старичком — рот запал, шепелявил отец с каким-то присвистом.
— Я теперь как Соловей-разбойник, — засмеялся он и присвистнул раза два, чтоб я отметил и оценил.
Когда выпили, отец завел речь о том, что он неплохо и с пользой для людей пожил. И ведь немало пожил, пора и честь знать. Потом он долго кашлял. Потом сказал:
— Сейчас я выпивши, — извинительная интонация, — а когда протрезвею, я тебе о дочке что-то скажу.
— О Машке?
— О ней.
— Скажи сейчас.
— Нет. Я тебе после скажу… Оно не так скажется — а ты обидишься.
Но конечно же он сказал. Потому что чем сильнее уходишь от разговора, тем отчетливее разговор остается с тобой и с твоим собеседником — и деться вам обоим уже некуда. Но сначала мы с отцом спустились к реке: смотреть пуск и первые труды парома. Я любил смотреть. Я даже заспешил: хотелось увидеть. Я поторапливал отца и спросил, куда же денется теперь перевозчик, то есть лодочник. Отец вдруг сурово брякнул, что в деревне с голоду не помирают. И что перевозчик будет держать перевоз в Демьяновке. Десятью километрами выше. Не пропадет.
— Ну и очень хорошо, — миролюбиво сказал я, не понимая, откуда его раздражение.
— Вот то-то.
А я смотрел на буксирчик, который перемещался по глади реки туда-сюда. Перед своим первым подвигом он был необыкновенно суетлив — бегал, фыркал и явно нервничал. И напоминал видом и ролью шустрого деревенского кобелька микроскопических размеров и с не вполне приличным именем — Хер. На воде темнела огромная масса парома. Буксирчик уже плясал вокруг нее. Пристраивался.
— Слышь, Игорь, — сказал отец, — я о дочке твоей.
— Да.
— Не обидишься?
— Не обижусь. — Я засмеялся; я смотрел на все это куда проще.
От ближнего к нам, недавно сколоченного причала несло свежей стружкой. Ока притихла. Деревья по берегам млели.
— Если она, — отец глотнул побольше воздуху, — убогой будет, неходячей то есть, оставляй ее у нас, насовсем. В деревне не пропадают.
И он помолчал так внушительно, что в просвет его слов можно было бы сплавать на ту сторону Оки и без спешки вернуться. Потом он добавил:
— А мы помрем — у дядьки Толи останется. Он помоложе.
Меня тронуло и это «помоложе», и «мы помрем», и где-то за кадром «дядька Толя», потому что минута идет за минутой, ты живешь и думаешь, что живешь вечно, но однажды такие слова тебя тронут. И уже будут трогать время от времени. Запах с того берега. Я долго и рассеянно рассматривал крыши изб в мареве. Мы смотрели с бугра. Вечерело. Ласточки описывали круги возле задымившей трубы — они проделывали это математически правильно и чисто, круг за кругом, при высочайшем совершенстве лёта.
— Там будет видно, — ответил я отцу. — Пусть Машка сначала подрастет. А там будет видно.
И все. Рассуждать и делать прикидку на будущее я не хотел — я знал нечто, чего не знали другие. Недавно после «прогулок» по горячему песку я массировал ей ноги. И, делая сгиб в колене, вдруг почувствовал силу упора ноги. Я с ходу преодолел, согнул ей стопу, и нога сникла, опять была вялая, однако оно уже было со мной и во мне — ощущение. Я не поверил. Машка лежала на животе и повторяла подманивающее «гули-гули-гули» (поодаль россыпью темнели и постанывали голуби). Я продолжал массировать. Я не верил и думал, не галлюцинация ли. Но голуби бродили. Машка им гулькала. Песок был горяч. А в моей ладони было то самое, не остывшее еще ощущение. Я промолчал об этом. Ни врачам, ни даже жене, ни даже самому себе. Чтоб не спугнуть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу