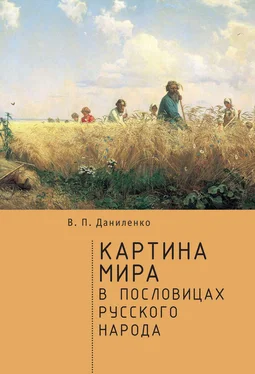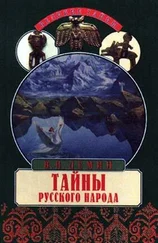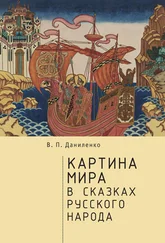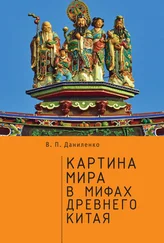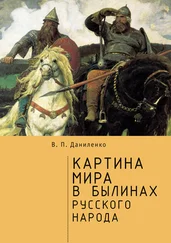Это нелегко. Иногда дело доходит до стрессов, но Семираев – крепкий орешек. Он вещает: «Я с детства тренирован на стрессах. В конце концов, у каждого их хоть отбавляй. Но разве смог бы я работать, если бы допускал до себя всех? Если бы бросался переделывать каждое полотно по совету любого доброхота? Если бы в рефлексии всё время перемалывал свои поступки? У меня свой защитный аппарат, выработавшийся с годами. Любую ситуацию рассматриваю как не свою. И при плохом, трагическом известии первое, что я себе говорю: “Ну и что? Мир перевернулся? Жить можно?” И тут же быстро, мгновенно напрягаюсь: сделанного и прошедшего не вернёшь – о нём жалеть нечего. Что делать дальше? Все усилия на будущее. Есть выход? Хорошо, будем точно и смело работать в этом направлении. Вперед, заре навстречу!» ( Есин С. Н . Имитатор // Новый мир, 1985, № 2, гл.1: http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_0020.shtml).
Прагматическая душа наставляет Семираева: «Художник – универсальная профессия. Он ещё и интриган, и дипломат, и торговец. Даже Пушкин, мой милый, думал о суетном. Торговался с издателями. “Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать”. Художник – белый и серый ангел сразу» (там же).
Эти слова Семираев мысленно адресует своему «талантливейшему» ученику Ростиславу Николаевичу («Славочке»). На этого ученика и предполагаемого жениха его дочери Маши у него очень серьёзный расчёт: он собирается взять его с собой в Париж, чтобы тот создал фреску в Русском зале Института языка. Эту фреску, используя свой многолетний опыт великого комбинатора, Семираев собирается выдать за свою. Она-то, лелеял он надежду, и приведёт его, наконец, к вожделенной мировой славе.
В мысленных обращениях к Славочке у Семираева есть и такие слова: «А, видите ли, Славочка ни через что переступить не может. Даже не хочет инсультную мать сдать в больницу для хроников. О, этот мальчик хочет все: быть и хорошим художником, и хорошим сыном, и верным возлюбленным. Миленький мальчик, ничем не хочет замутить своего душевного покоя. Он что, не понимает, что художник носит в душе ад? О, эти чистоплюи. Им что, привести исторические параллели, рассказать о той брани, которую Микеланджело выливал на головы своих товарищей-художников, напомнить, как Бенвенуто Челлини пырял инакомыслящих коллег по искусству ножом? Отстаивали себя и свою точку зрения» (там же).
Но вот что любопытно: чистый и честный Славочка в какой-то мере олицетворяет для Семираева его собственную душу, но только не прагматическую, а подлинную. Последняя, несмотря на её затравленное состояние, время от времени всё-таки вырывается из-под власти первой. Вот так, например: «Я сажусь на диван (в комнате Маши. – В. Д .), и вдруг острая, как нож, мысль пронзает душу: “А к чему эта гонка? Ведь тебе уже за пятьдесят. Будет ли о тебе статья в энциклопедии или не будет, разве изменится что-нибудь в мире? Ведь живут же люди без всей этой мишуры. Живут и не задумываются о конечной цели существования. Заботятся о детях и внуках. А я даже не знаю, что заботит единственную дочь, чем она дышит”» (там же. Гл. 2).
Выходит, нельзя красить Семираева одной чёрной краской, как это делала по преимуществу советская критика. Но в конечном счёте она была права: подобные прорывы своей подлинной души Семираев сразу же заглушал. Не давал им волю. Вот как он завершает предшествующий монолог: «Эта мысль не впервые посещает меня. И я знаю, что единственное спасение – безжалостно гнать её. Потому что от себя не уйдешь, в пятьдесят лет уже не переделаешься. Какой-то детский порок, какое-то неясное мне самому унижение в детстве дало мне это обременительное честолюбие, и весь мой духовный мир вызрел на его основании. Надо грустно принимать эту данность и, не останавливаясь, бежать на марафоне собственной жизни» (там же).
Или вот так: «В мои-то пятьдесят с лишним лет мне как-то негоже менять амплуа. Будут, правда, валидолы, корвалолы, кордиамины, суета, а может быть, на недельку и гипертонический криз. Трус не играет в хоккей!» (там же).
Программа есть – надо её выполнять. Семираев приучал себя жить по программе с детства. Ещё в школе он понял, что «можно поступиться всем, всё забыть, но не карандашик с бумагой» (там же. Гл. 3). Карандашик с бумагой он и сделал стержнем своей жизненной программы. Он поступил в Иркутске в художественное училище. Он понял в нём раз и навсегда: искусство требует жертв.
«И когда из армии демобилизовался, – вспоминает Семираев, – и не остался в селе, хотя мать уже перемогалась и была нездорова, когда не приехал на похороны матушки, когда умерла Мария-старшая (первая жена. – В. Д .). Я только всегда знал, что поступаю жестоко, но успокаивал себя – стечение обстоятельств, роковая необходимость – и мучился, а потом мучиться перестал, как отрубило: хватит, нечего себя растравлять ненужными переживаниями, художник должен отбросить всё, что мешает ему двигаться вперёд. Я всегда позже был уверен: поступаю так, а не иначе ради своего звёздного часа, ради искусства, ради будущего» (там же. Гл. 3).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу