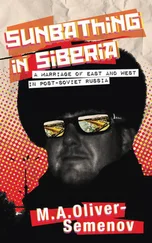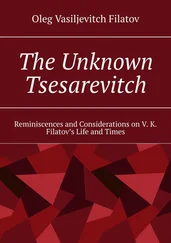Отец часто выезжал в горячие точки: работал военкором "Правды" во Вьетнаме, летал на Северный Полюс, в Афганистан, Никарагуа, был собкором "Литературной газеты" в Германии, собирал материалы для романов "Экспания" (продолжение Штирлица) в Латинской Америке, участвовал в международных конгрессах писателей, одним словом объездил весь свет.
Из всех странствий спешил домой с либеральными идеями и творческими задумками. Даже в самые мрачные времена застоя не возникла у него идея "выбрать свободу" - он столь остро ощущал свою принадлежность России, что думать о своем благополучии вне ее не хотел.
Видя недостатки и проблемы строя желал кардинальных перемен, но считал, что изменения должны быть серьезно продуманы, проводиться в интересах самых широких слоев населения и в рамках закона и логики, а не стихийно.
Он не был членом партии, но верил в возможность социализма европейской модели - с частной собственностью, свободой предпринимательства, открытыми границами, конвертируемым рублем и сохранением в руках государства недр - всего лишь.
Увы, большинство было настроено менее романтично и отцу это стало ясно.
Накануне "смутных времен", не побоюсь сказать голодной зимой 1989 года, в откровенном разговоре с дочерью Дарьей - художницей, он признался: "Грядет хаос, если вы с мужем решите поработать некоторое время за границей - я пойму."
"А как же ты, папа?!" - спросила она. "Я останусь до конца. Создатель Штирлица уехать из России не имеет права".
Эта преданность Родине и чувство личной ответственности за миллионы поверивших ему читателей предопределяли все его поступки.
Фразу одного из отцовских литературных героев - писателя Никандрова из "Бриллиантов дл я диктатуры пролетариата": "я мою землю, кто бы ею не правил, люблю" можно считать и его жизненным кредо.
Легко было критиковать в те времена драконовские советские порядки из - за кордона, значительно сложнее - писать, оставаясь в стране за железным занавесом. Юлиан Семенов выбрал последнее и, если сейчас молодые россияне (как и их родители когда - то) с интересом читают его книги и смотрят фильмы по его произведениям, значит все он в своей писательской жизни сделал правильно.
"Нельзя быть Иванами, непомнящими родства" - часто повторял отец, считавший святым долгом каждого живущего хранить память об ушедших, а в письме к замечательному русскому танцору Лифарю сказал: "Жизнь человека - это память по нем".
Если писателя Семенова знают миллионы, то Семенова человека - помнят все меньше и меньше. И горько это, ибо человеком он был редкостным. Надеюсь, что благодаря этому сборнику читатели смогут убедиться в этом сами.
Ольга Семёнова
К Оглавлению
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Юлиан Семенов о себе, о работе, о Штирлице
У каждого человека есть альтернатива: либо смириться и бездействовать, либо пытаться сделать хоть что-нибудь.
Пусть не хватит сил, но попытка подняться похвальна.
Юлиан Семенов
Чтобы добыть огонь, надо высечь искру. Высекание — это длительный и шумный труд, это как речи писателя, в то время как его истинный труд — это искра. Важно, на что обращают внимание: на процесс высекания или на саму искру; на речи или на книги. Процесс высекания — либо самолюбование, либо сбор материалов для книги об огне.
Я далек от того, чтобы считать, будто смог добыть огонь. Но прилагал максимум усилий, чтобы высечь хоть какую-то искру. И процесс высекания этой искры был для меня великолепным поиском, который начался давно: может быть во время первой бомбежки Москвы, — а ведь я тоже пел: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей земли не отдадим», но и тогда, в этом ужасном и страшном, я видел друзей отца — писателя Владимира Лидина и журналиста Эзру Виленского, которые, чтобы преподать мне урок самообладания, во время бомбежки терли друг другу спины в маленькой ванной на Спасо-Наливковском, и мне, десятилетнему, было стыдно выбегать на улицу и блевать от страха.
Может быть, этот процесс высекания продолжался в Берлине, на развалинах Унтер-ден-Линден, весной 45-го, когда я познакомился мальчишкой с Берзариным, Боковым, Телегиным, Лесиным и воочию увидел высокое достоинство победителей? Может быть, это случилось в 52-м, в Институте востоковедения, где я впервые понял — до слез горькую — цену мужской дружбы? Или наблюдая моего научного руководителя И. Рейснера в МГУ, — не знаю, когда точно: даты важны для некролога или, в лучшем случае, энциклопедии.
Читать дальше