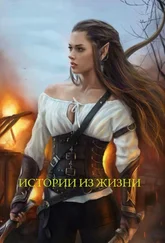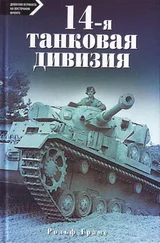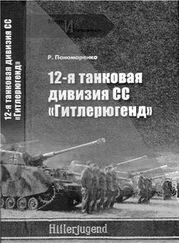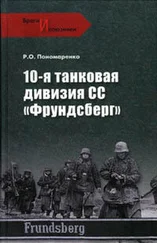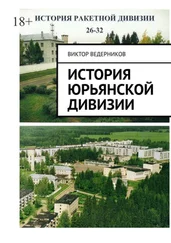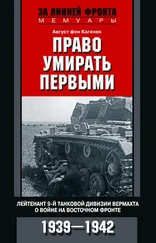Норвегия
Злые поступки
Злыми зови,
Мсти за злое немедля.
Старшая Эдда. Речи Высокого, 127.
В ходе «национальной чистки» в Норвегии перед «народными мстителями» во весь рост встали сразу две проблемы конституционно-правового порядка. Во-первых, по Уголовному кодексу 1902 года, принятому еще в период династической унии Норвегии со Швецией[679], смертная казнь вообще не была предусмотрена. Во-вторых, требовалось однозначно определить политический статус Норвегии в период оккупации (1940-1945). На этот счет существовали, в основном, две точки зрения. Согласно первой Норвегия, король (английский принц и глава государства) и правительство которой эмигрировали в 1941 году в Англию, в 1941-1945 годах продолжала находиться в состоянии войны с Германией. И, коль скоро Норвегия находилась в этот период в состоянии войны с Германской империей, то все виды и акты сотрудничества норвежских граждан с немцами могли рассматриваться как наказуемые. Если же Норвегия, согласно второй точке зрения, была в указанный период оккупированной страной, то ее население, согласно положениям Гаагской конвенции, было обязано, как и население всякой оккупированной страны, выполнять все требования и постановления германских оккупационных властей, а все норвежские административные органы и чиновники – были обязаны сотрудничать с германскими оккупационными властями. Третья точка зрения, согласно которой прогерманский режим Видкуна Квислинга, находившийся у власти в Норвегии в указанный период, являлся законным правопреемником довоенной норвежской государственной власти, Фемидой победителей к сведению не принималась. Большинство норвежских судов склонялось к первой точке зрения (поскольку она предусматривала возможность вынесения более суровых приговоров «коллаборационистам» ). Если бы победила вторая точка зрения, наказанию подлежали бы только норвежские добровольцы-чины норвежской армии[680] и полиции, сражавшиеся в составе «армии иностранного государства» (в том числе и в рядах Ваффен СС) с оружием в руках (когда норвежские добровольцы, в аналогичной ситуации, сражались на стороне Финляндии против советской агрессии в «зимней войне» 1939-1940 годов, военнослужащим и полицейским из их числа пришлось предварительно уволиться из рядов армии и полиции).
Преследование «коллаборационистов» в Норвегии началось сразу же после капитуляции германских оккупационных войск. «Предателей» [681]брали прямо по спискам, заранее составленным активистами норвежского движения Сопротивления. Поскольку последним удалось своевременно захватить картотеку членов квислинговоской партии Нашунал Самлинг, а Норвегия – страна небольшая, дело шло как по маслу. 55,2 процента 92 805 норвежцев[682], привлеченных к суду за «коллаборационизм» , были членами партии НС. Все государственные чиновники и служащие из их числа были автоматически уволены с государственной службы (за исключением тех немногих из них, кто сумел доказать, что в период оккупации использовал свое служебное положение в интересах движения Сопротивления, сообщая подпольщикам секретные сведения, снабжая их поддельными служебными удостоверениями и т.д.). Кроме того, члены партии Нашунал Самлингбыли приговорены к уплате в пользу норвежского государства, которому они «причинили ущерб своими изменническими действиями», денежных штрафов общей суммой в 70 миллионов норвежских крон.
46 000 представших перед судом норвежцев были признаны виновными в «коллаборационизме» и осуждены. 30 осужденных были приговорены к смертной казни, а 37 150 – к различным срокам тюремного заключения (в том числе 17 000 – к тюремному заключению сроком от 1 года до 5 лет). 25 180 обвиняемых добровольно согласились понести наказание, не доводя дела суда, ибо не сомневались, что будут осуждены в любом случае.
Жертвой превосходно сдирижированного «народного гнева» пали и 50 000 норвежских женщин и девушек, вступивших в интимные связи с военнослужащими германской армии. Матери детей, рожденных от немецких солдат и офицеров, были интернированы в особых лагерях. Известная норвежская писательница Сигрид Ундсет заклеймила 9000 детей, рожденных от германских оккупантов, «детьми шлюх» и заявила, что лучше бы им всем умереть.
Это было, конечно, не так страшно, как в случае, приведенном в книге современного российского историка Бориса Соколова «Третий рейх. Мифы и действительность», когда советская колхозница, прижившая за 3 года сожительства с немецким оккупантом троих детей, после спешного отхода германских войск и появления красноармейских авангардов, на виду у них и всего села уложила своих детей в ряд на снегу и раздробила им головки камнем с криком: «Смерть немецким оккупантам!», но все же, все же, все же …(выражаясь словами советского поэта фронтовика Константина Симонова, размышляющего в одном из своих стихотворений про то, что нет его вины в том, что другие не пришли с войны).
Читать дальше