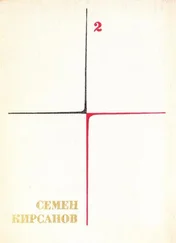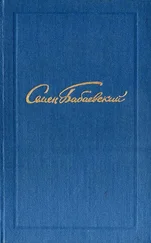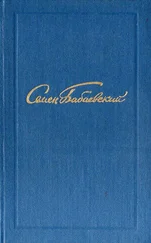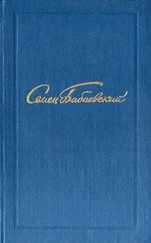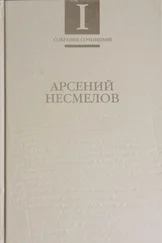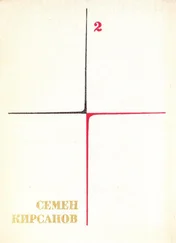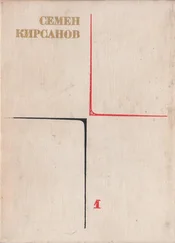Я не очень-то рвусь в заграничный вояж
и не очень охоч на разъезд.
Велика и обильна страна моя,
и порядок в ней должный есть.
Но посмотришь на глобус —
для школьников шар,
стран штриховка и моря окраска, —
сразу тысячью рейсов махнет по ушам
кругосветная качка и тряска.
И чего прибедняться! Хочу увидать
то, чего мое зренье не видело:
где коралловым рифом пухнет вода,
Никарагуа, Монтевидео…
Я мечтал, не скрываю, право мое —
жадным ухом прислушаться к говору,
стобульварный Париж, стоэтажный Нью-Йорк,
все вобрать это полностью в голову!
Но сегодня, газету глазами скребя,
я забыл другие искания,
все мечты о тебе, все слова для тебя —
Испания!
Вот махнуть бы сейчас через все этажи!
(Там — окопы повстанцами роются…)
И октябрьское знамя на сердце зашить
астурийцам от метростроевцев.
Ты на карте показана желтым штрихом
в субтропическом теплом покое,
а взаправду твой зной проштрихован штыком,
я сейчас тебя вижу такою!
Не мерещатся мне улыбки Кармен
и гостиничное кофе.
Мне б хоть ночь пролежать, зажав карабин,
с астурийским шахтером в окопе.
Кстати, норму я сдал в позапрошлом году,
ворошиловцы — надобны вам они,
даже цветом волос за испанца сойду, —
породнимся на красном знамени!
В Париже по Rue St-Honore,
и в синие сумерки проходил,
где спит на пляжах витрин-морей
вещь-змея и вещь-крокодил.
В стекле — фарфоровый свет грудей,
фаянсовых рук, неживых людей,
розовой резины тягучая мазь
на женщинах из пластических масс.
Я подошел к одной из витрин.
В вывеску вписывались огни,
стекло зеркальное, а внутри
ящик и две золотых ноги.
Чулка тончайшего чудо-вязь
и ноги без туловища, одни,—
не воск, не дерево, не фаянс.
Живые — вздрагивали они!
Звездам пора уже замерцать,
созвездья вползают на этажи;
женщина в ящике ждет конца
и несколько франков за эту жизнь.
Вздрогнули мускулы под чулком,
и дрожь эту каждый увидеть мог…
Родиться не стоило целиком,
чтоб жить рекламного парой ног.
Но нечего делать, торговый Париж
спускает шторы, вдвигает болты;
Париж подсчитывает барыш
за женские ноги, глаза и рты.
Поднят на крышу кометный хвост,
гаснут слова и дрожат опять,
кто спать в постель, кто спать под мост,
а кто еще одну ночь не спать…
Я эту витрину ношу в мозгу,
той дрожи нельзя замять и забыть;
я, как спасение, помню Москву,
где этого нет и не может быть.
Вот Пер-Лашез, мертвый Париж,
столица плит, гранитных дощечек,
проспекты часовен, арок и ниш,
Париж усопших, Париж отошедших.
Мать припала к ребенку, застыв,
физик — с гранитной ретортой.
Сырые фарфоровые цветы
над надписью истертой.
С каменной скрипкой стоит скрипач
у камня-рояля на кладбище.
Надгробья готовы грянуться в плач
Шопеном траурных клавишей.
Писатель, с книгой окаменев,
присел на гранит-скамью.
И вот стена, и надпись на ней:
«Aux morts de la Commune».
Я кепку снял, и, ножа острей,
боль глаза искромсала, —
Красная Пресня, Ленский расстрел,
смерть в песках комиссаров,
Либкнехт и Роза и двадцать шесть,
Чапаев и мертвые Вены
всплывали на камне стены Пер-Лашез,
несмыты, неприкосновенны.
Кладбищенский день исчерна синел,
и плыли ко мне в столетье
венки из бессмертников на стене,
«Jeunesse Communiste» на ленте…
На новом радиусе
у рельс метро
я снова радуюсь:
здесь так светло!
Я будто еду
путем сквозным
в стихи к поэту,
на встречу с ним!
Летит живей еще
туннелем вдаль
слов нержавеющих
литая сталь!
Слова не замерли
его руки,—
прожилки мрамора —
черновики!
Тут в сводах каменных
лучами в тьму
подземный памятник
стоит — ему!
Не склеп, не статуя,
не истукан,
а слава статная
его стихам!
Туннель прорезывая,
увидим мы:
его поэзия
живет с людьми.
Согретый множеством
горячих щек,
он не износится
и в долгий срок.
Он не исплеснится!
Смотрите — там
по строчкам-лестницам
он сходит сам.
Идет, задумавшись,
в подземный дом —
в ладонях юноши
любимый том!
Пусть рельсы тянутся
на сотни лет!
Товарищ станция,
зеленый свет!
Землей московскою
на все пути,
стих Маяковского,
свети, свети!
Читать дальше