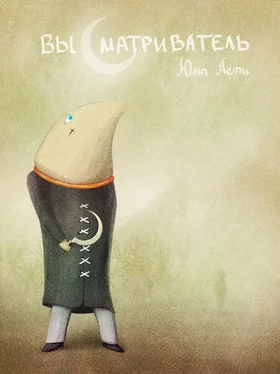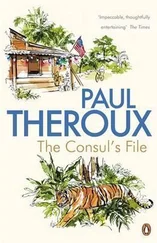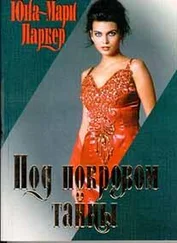Один из них как раз оказался рядом. Это был человек, который ехал на транспорте своего любопытства с подсветкой из горящих глаз, проделывая какой-то замысловатый маршрут, Гюн прыгнул к нему в путешествие, и они мчались, как вырванные из детства (мчались). Небо собирало мимику из созвездий, бился тончайший полумрак, и лунные псы вылизывали звезды; люди, путешествующие в снах, переливались волшебными жидкостями. Они мчались, пока не налетели на затор: это была крупная форс-машина, которая создавала обстоятельства непреодолимой силы, иногда такие ставили на дорогах, и можно было куда угодно опаздывать. Так они проезжали мимо городов. Вскоре встретилось следующее препятствие, и возничему приходилось лавировать. Это были незавершенные строения – планы, которые понастроили, но реализовать их никто не мог, и они стояли тут призраками, загораживая чужие пути.
Дальше было очень красиво. Как тихий ночной цирк, и у людей – звёздные штаны, акробаты-лунатики. Свет, который они испаряли, собирался в оптические облака, и они плыли над головой, как огромные горящие сны. Даже возничий стал такой странный, как выдавленный из красочного сновидения, и это значило, что они уже подъезжали, всё начало растворяться, и откуда-то из невидимости раздалось: теперь мы на месте, но здесь не было кафе, чтобы он мог оставить что-нибудь на чай, поэтому он шёпот оставил на чай, так делала его мама. Гюн вышел из приближения, обратив взгляд на звёздную высоту, и созвездие подмигнуло своим далёким приветом существования.
Скрипторий – манускрипты заложить бы самое время. Театр памяти – вот куда он попал. Хотел начать с гардероба, но там была огромная очередь: люди сдавали мысли, чтобы не мешать остальным, в некоторых театрах думать считалось неприличным. Дальше начиналась стена – для тех, кто предпочитал носить мысли с собой, человек подходил и начинал вмазываться, как будто размышлял, хакеры вечных ценностей; около стен сидели шарманщики, крутившие нервы, – четверо шарманщиков и один мыслитель, который лечил вопрос как болезнь. «Это ли театр?» – думал Гюн. Это театр, отвечал он сам себе; это театр, потому что возвращается быт, связи между предметами и сами предметы, люди показывают их – предметы, одежду, скобку, отображают свои жизни через некие символы. Это театр, и это драма без костей. Обезбоженные в главных ролях.
Накатывало какое-то раздражение, и он видел все эти выступы на стене – проявленные гниды быта, узкие пузыри хвастовства, и они забираются в них, как наружная рыба свою изнанку ищет, так же и человек ищет свои внутренности, собирает по внутренним мирам, строжайше закрытым – мы не знаем, как отвечать на обычаи, у нас был танец, но его тоже выкрали . И мы пошли искать тех, кто хотел бы за нами повторять, и мы крутили балаганы, снимали людей и пересаживали их с оленя на коня, выступая уверенным очевидцем, но ухватиться за главную мысль мы так и не смогли. От этой лёгкости что-то образовывалось во рту – как неприятие, травяной язык, и мы жевали свои языки, пытаясь наесться…
И он тоже жевал. Что-то заставляло Гюна приходить сюда, он чувствовал, будто оставил что-то довольно ценное, и он проваливался в самого себя, как в нору летел, обмотанный длиннющими ушами воспоминаний, – чтобы зайти с самой глубины, на мысленных полях прорасти.
В демонстративных локонах, взвитые, праздничные, они жили, как ярмарка красочной индивидуальности. Плыл религиозный ряженый в стиле «бродячее будущее»: человек в костюме из маленьких клеточек, в каждой из которых сидела мышка либо лежал сыр – философское облачение. Потом прошагал аллергик, у которого была нетерпимость ко времени, и в физическом смысле он весь начинал трястись, стоило ему только наткнуться на часы. Ещё попались высокий сезонный циник, профессор-вата и очередь, набитая глебами, претендующими на созвучие с хлебом. Дядя, привязанный к поговорке, маленький говорун с протухшим сознанием и типично анонимный глум, помахивающий гирляндой из друзей. Гости получали псевдонимы на входе, а на выходе их ожидали специальные комиссии, и новую жизнь надо было сдавать как экзамен, нельзя было тащить за собой, поэтому они садились – и какие-то вопросы, чаще всего свои.
Творители нового шума играли тут – вторичноротые, несущие свои отверстия напоказ, быстросменяющиеся тени героев, и все эти кандидаты, полные минимума, без конца выкладывающие рутину (слов), чтобы не видна была бледная хирургия скуки – театры памяти как машина по производству жизни…
Читать дальше