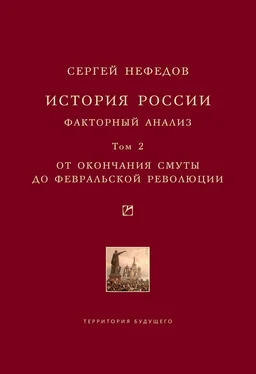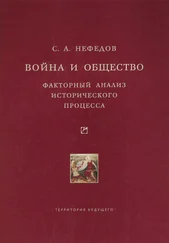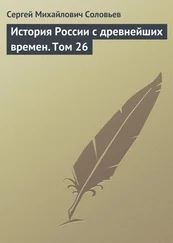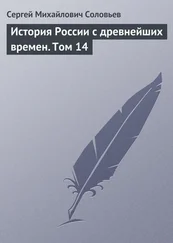После заключения мира с поляками из плена вернулся патриарх Филарет, отец царя, который стал фактическим руководителем правительства. Филарет вырос в эпоху Ивана Грозного и придерживался старых понятий о значении царской власти. Патриарх получил титул «Великого Государя» и правил как самодержец. С 1622 года перестают собираться Земские Соборы, и понятие «совет всей земли» исчезает из правительственных документов. «Филарет был… настолько властным, что даже сам царь боялся его, – писал архиепископ Пахомий. – Он держал в повиновении бояр и других царских людей, ссылая их или налагая на них другие наказания… Он управлял всеми государственными и военными делами царства». [23]
Филарет энергично взялся за восстановление налоговой системы. Чтобы наладить сбор налогов, необходимо было провести перепись земель, подобную тем, которые производились в XVI веке. Первые же попытки проведения переписи в отдельных районах показали, что площадь «живущей» (т. е. регулярно засеваемой) пашни сократилась в 4, в 10 и более раз. Чтобы уклониться от налогов, крестьяне указывали в качестве тяглых наделов мизерные участки в одну – две четверти (четверть – половина десятины). В Шелонской пятине на «обжу», которую когда-то распахивал один крестьянин, теперь приходилось больше 20 дворов; общая сумма налогов сократилась в 50 раз. [24]Правительство боялось возобновления восстаний, и писцы не смели выявлять утайку пашен; им было приказано действовать со всяческой осмотрительностью, чтобы крестьян «не оскорбить». [25]При таких обстоятельствах в 20-х годах была-таки проведена перепись и назначены новые налоги: «ямские деньги» и собиравшийся натурой «стрелецкий хлеб». Как и раньше, окладной единицей служила «соха», содержавшая на поместных и вотчинных землях 800 четвертей «живущей пашни», на монастырских землях в «соху» клали 600 четвертей, а на черных землях – 500 четвертей. Правительство попыталось получить необходимые деньги, взимая с мизерных тяглых наделов достаточно высокие налоги. В конце 20-х годов с сохи брали 400 рублей ямских денег и 100 «юфтей» стрелецкого хлеба (юфть – это четверть ржи плюс четверть овса). В пересчете на хлеб крестьянский двор, имевший надел в 1 четверть на поместных землях, должен был отдавать в уплату налогов около 7 пудов ржи и овса, примерно 1,4 пуда на душу населения. Это была ставка, в 2–3 раза более высокая, чем до Смуты, и естественно, что слабая власть не смогла заставить крестьян платить такие налоги. Характерно, что ходатаями за крестьян выступили дворяне – ведь высокие налоги уменьшали их ренту. Дворяне засыпали правительство коллективными челобитными. Служилые люди из Торопца и Холма писали, что «которые де крестьяне и бобыли в их поместьях и вотчинах оселились внове, после разоренья… те крестьяне ныне живут за ними по льготе, а подмогают их они государевым денежным жалованьем». Помещики из Зубцовска били челом, что «которые у нас остались от разоренья бобылишка, и те кормятся христовым именем, а иных мы, холопи ваши, тем же вашим государским жалованием денежным делимся и подмогаем». [26]
В канун Смоленской войны коллективная подача челобитных приобрела характер массового политического движения – и не терпевший пререканий Филарет был вынужден пойти на уступки. Была введена новая окладная единица, «живущая четверть», которая заменила прежнюю реальную четверть «живущей» пашни. В «живущую четверть» на поместных и вотчинных землях стали класть 8 крестьянских и 4 бобыльских двора или (в других уездах) 12 крестьянских и 8 бобыльских дворов. Если раньше четверть пашни (1/800 часть «сохи») соответствовала примерно 1 крестьянскому двору, то теперь «живущая четверть» (тоже 1/800 часть «сохи») соответствовала 10 или 16 дворам (два бобыльских двора считались за один крестьянский). Обложение «сохи» осталось прежним, а число дворов в сохе возросло в 10–16 раз – следовательно, налоги с двора уменьшились более, чем в 10 раз! Эта впечатляющая победа дворян продемонстрировала полное бессилие правительства. [27]Филарету не удалось восстановить самодержавие, и страна продолжала оставаться ареной борьбы сословий.
Уменьшив налоги с поместных земель, власти были вынуждены сократить и податное обложение монастырей. В «живущую четверть» на монастырских землях клали 6 крестьянских и 3 бобыльских двора. Поскольку в монастырской «сохе» было 600 четвертей, то налоги на монастырских землях были примерно в 2,3 выше, чем на поместных. Кроме того, во время войн монастырские и «черные» крестьяне были обязаны поставлять «даточных» (или «посошных») людей и платить «ратным людям на жалование»; в отдельные годы это резко увеличивало тяжесть повинностей. Хуже всего было положение крестьян на «черных» землях; «живущая четверть» оставалась здесь реальной четвертью пашни, и обложение «черных» крестьян, таким образом, сохранялось на прежнем высоком уровне. Земли центральных уездов были розданы в поместья, и основные массивы «черных» земель располагались на Севере и в Вятской области. На «черных» землях стрелецкий хлеб выплачивался деньгами, и до начала Смоленской войны вятские крестьяне платили примерно 260 дене; [28]по официальным расценкам это составляло около 20 пудов хлеба со двора или примерно 4 пуда с души. Это было в 10–20 раз больше, чем налоги поместных крестьян, но при этом нужно, конечно, учесть, что «черные» крестьяне не платили оброков помещикам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу